Блог клуба - На литературных волнах
| Администратор блога: | subarssm |
|
Всякий раз, когда я проезжаю мимо этого места, мое дыхание меняется. Оно становится коротким и частым — что-то в груди моей начинает преграждать ему путь. Перестук колес становится тревожнее и громче; он нарастает и отдается в висках. И когда мимо окна вагона, в которое неотрывно смотрю я, с гулким шумом проносятся будка путевого обходчика и его казенный домик с палисадником, я, кажется, совсем перестаю дышать. Это длится недолго, и вспоминаю я об этом сразу же, как только обрывается переезд — небольшой проем в еловых посадках с опущенным шлагбаумом.
Я успеваю поймать глазами две старые ивы на повороте дороги, бегущей к деревне, крутой склон оврага, желтое поле сурепки по правую сторону, крайние избы деревни, полускрытые зеленью кустов... И жду, когда кончатся посадки и откроется вид на уже далекие, облепившие голый холм Заносы — деревню моей матери, моего детства. Я приезжал туда каждое лето, чтобы, как говорила мать, хоть чуточку окрепнуть. Не помню, чтобы в то время я оглядывал себя в зеркало, но худой живот и сухие плечи руки мои помнят до сих пор. А в деревне, даже в послевоенном ненастье, были и картошка, и молоко, и без нормы — яблоки. Дядя Вася, материн брат, вернулся с фронта легкораненным. Он снова работал бригадиром; как и до войны, завел пчел и редко, когда удавалось, ходил на охоту. В Заносах он один имел ружье, привез из Германии. Считалось, что он один и был охотником в деревне. Мои двоюродные сестры — Валя и Тамара — были погодками, учиться ходили в соседнюю деревню. От старшей я отставал на три года, от младшей, Вали, на два, но я был городской, и это как-то уравнивало нас. Вообще о школе летом мы почти и не вспоминали, о ней иной раз, когда бывала не в духе, заговаривала тетка. — Учились бы, как он, — показывала она на меня, — в одну породу-то. Ферма от вас никуда не убежит. Сама она работала дояркой, каждое утро вставала до рассвета. Я выслушивал ее со сложным чувством. В глазах сестер было приятно обладать хотя бы этим — школьными успехами — ибо ни ростом, ни силой я наделен не был. Но быть свидетелем унижения их, особенно Вали, в которую я в то лето вдруг отчаянно влюбился, было тяжело. А Валя — в отличие от сестры, обидчивая и стыдливая — краснела и поджимала губы. Укоряющий взгляд ее черных глаз тетку ничуть не трогал, та даже добавляла, чтобы уколоть побольней: — Ума-то не займешь, так хоть бы старались. Одна бусорь в голове... Слышать это было горько и сестрам, и мне, ибо это было несправедливо, особенно в отношении Вали, которая несла в себе самое лучшее, что могло быть для меня в человеке. Это было несправедливо и потому, что и Тамара, и Валя в любой день не имели, кажется, ни одной свободной минуты, все были заняты, все что-то делали. Тетка с утра уходила на ферму, и вся работа по дому и по хозяйству оставалась на дочерей: и с печью управиться, и поросенка с курами кормить, а корове и овцам на вечер приготовить, и в огороде прополка и поливка... Мы, городские ребята, ждали каникулы как отдых, и в жаркие дни целыми днями пропадали на речке. В деревне было не так. Тетя Маруся поначалу, когда я был совсем пацаном, не трогала меня, как бы и не замечала. Потом безделье мое ей надоело. — Пособи девкам-то, — сказала как-то, показывая на них, половших грядки. — Чего истуканом-то сидеть... Я присел на корточки рядом с Тамарой, ухватил пальцами первые былинки сорной травы. Через час или того меньше выщипывание зелени в огурцах показалось мне самой нудной работой на свете. И тяжелой, ибо скоро же заныла спина, одеревенели ноги. Началось с этого, а уже на второй день, посылая девчонок в поле, тетка подала лопату и мне: — Куртинку подымешь, и то ладно. По ближнему краю картофельного поля шли яблони, лошадью тут не пахали, ровняли полосу вручную. В самом саду землю вообще не трогали, здесь, в густой тимофеевке, стояли ульи, гудело пчелиное царство. Я выбрал себе куртинку — промежек между деревьями — поровней, с набравшей силу травой; за дело взялся резво. Однако скоро почувствовал, что и это занятие не мед. Если бы только втыкать лопату да отваливать землю, как я было и начал делать. Нет, надо было разбить комок и выбрать руками дерновую бороду. И потом опять то же самое, и опять то же, и все почти на одном месте... Разговоры наши прекратились, мы копали молча, и я был уже тем доволен, что Валя не видела моего злого, потного лица. Она находилась впереди. Косы ее, завязанные узлом на затылке, съехали набок; между лопаток на кофточке проступило темное пятно. Я уже не посматривал на нее, как в первые минуты, не ловил взглядом каждый поворот головы. С трудом отрывая лопатой очередной ком земли, я тут же ронял его, — не пускал проволокой скрученный пырей. Об этом хищнике я знал до этого лишь со слов тетки и сестер, теперь же — вел с ним изнурительную битву. Впрочем, то же самое делали и сестры, но им, как мне виделось, это давалось легче. Что-то заставило меня поднять глаза — я увидел испуганное лицо Вали. Бросив лопату, она побежала по полю, обмахивая голову руками. Потом стала сдергивать с себя кофточку, скинула ее и чуть погодя остановилась. Руки ее были готовы вновь вскинуться, чтобы отогнать пчелу, пока она не увязла в волосах или в одежде... Но та, кажется, уже успела ужалить: Валя стала тереть пальцами место на шее. Я принес ей кофточку, сказал с открытой жалостью: — А говоришь, своих не кусают. — Я потная, — отозвалась Валя, встряхивая кофту, — вот и летят. — Ты вкусней, — проговорил я. Это я, наверное, слышал от других, но произнес с ясным осознанием безусловной истины. — Ага, — усмехнулась Валя. Потом я держал у нее на шее землю с подорожником. Место, куда ткнулась пчела, припухло, руки плохо слушались меня. — Больно нежная, — говорила вечером тетя Маруся, — до сих пор с медом не может есть, сыпь высыпает. Как крапивой обстрекет. А пчела вжикнет — так вон что деется, еще и лицо опухнет. И врачи ничего не могут поделать. Я не слышал тетку. Душа томилась в ожидании сумерек, когда после ужина, забыв все заботы дня, мы отправлялись на полати. Скотину обрядили, дела наметили, — долго бубнил что-то за отгородкой дядя Вася, и устало, коротко отзывалась тетка — можно и ложиться. Собственно, на полатях спал только я; сестры — после того, как похоронили деда Сергея, — перешли с кровати в горнице на печь. Родители оставались внизу одни. Дощатая перемычка между печкой и стеной дома была узкой; головы сестер лежали на подушках так близко, что я среди запахов вытертых кирпичей и сухой овчины ощущал и их живой, волнующий дух. До того, как совсем улечься, мы сдвигались к дальней стенке печи, и наш жаркий шепот вытеснял вокруг все другие звуки. Больше всех говорил я: рассказывал прежде всего о школе, о том, как мы дразним учителей. — А историчку мы зовем шавкой, она маленькая такая, все время кричит на всех... Я сам смеюсь, слыша, как прыскает Валя. — Раз Колька Рыжов скинул с парты шапку на пол и подымает руку: — Марья Гавриловна, можно шапку поднять? — Чего-о?! — орет Марья. — А мы хохочем. А Колька, как ни в чем не бывало: — Шапку, вон она валяется... — Ну, мы в покатуху... Девчонки почему-то не смеются, а Тамара бросает: — Во, дураки... — А чего? — защищаюсь я. — Она все время на нас, как эта... Я не договариваю: внизу скрипит пол, слышны шаги дяди Васи. — Хватит вам там! — сквозь кашель выдыхает он и, добавляя что-то уже неразличимое ухом, толкает дверь в сени. Мы ждем, когда он вернется и снова уйдет за перегородку. Я уже лежу на своем месте, лицом к бревнам стены. За спиной утихают, засыпая, сестры. Вернее, засыпает только Тамара. Валя и не думает об этом. Все чаще задерживая выдох, она прислушивается и, как и я, ждет, когда старшая сестра станет, наконец, дышать глубже и ровнее. Я тоже жду этой минуты. И тихо, невесомо протягиваю руку к мягким Валиным волосам. Она перехватывает мои пальцы и тянет их к лицу, к щеке, почти к губам. В душе моей звучит незнакомая доселе музыка — новая чистая мелодия проникает, кажется, в каждую точку моего легкого тела. Я долго не дышу, мне и не нужен воздух — жизнь вливается в меня через валину ладонь, которой она прижимает к губам мою руку... Переживал ли я когда-нибудь после такое упоение? Наверное, переживал, но сердце и память особо благодарны именно этим чарам первого чувства самоотвержения. — Сегодня корову пасти пойдете, — говорит тетя Маруся в одно из утр. Мы с Валей киваем. Дело нетрудное, но к концу дня надоедает. И жара, и слепни — Зорька забирается от них в кусты, стоит целыми часами, и еда ей не нужна. Добирает вечером: стрижет траву, голову не подымет. Но ее отправили в стадо — объявился-таки пастух Захар, не вышедший вовремя к выгону. Смурной, похмельный Захар вышел из крайнего проулка и молча прошел мимо притихших баб. Потом, уже на выгоне, сильно стрельнул кнутом. С утра же опять заговорили о бешеной собаке, покусавшей на днях людей в соседней деревне. Кто-то уверял, что видел ее и у нас, в Заносах, чему вроде бы нашли и подтверждение — крупные следы на дорожной пыли. Тетка ушла на ферму. Дядя Вася, шумнув нам, чтобы вставали, ушел на конюшню запрягать лошадь. Верхом, как прежде, он ездить не мог — мешало ранение, пользовался телегой. На ней отвозил и народ на дальние поля. Накануне качали мед — крутили ручку медогонки мы по очереди; мне даже дымарь дядька доверил, когда перекосило рамку в новом улье. Валя, конечно, и вблизи не показывалась. Потом макали хлеб в тягучий золотистый мед в миске и ели, и запивали молоком. Такое бывало в пору моей жизни в деревне только один раз, когда поспевал гречишный сбор. С него и мне давали с собой бутылку — это был главный подарок для нас — городской ветви дедова дерева. — Поскупи-илась, — говорила мать о невестке, будто та была первой в Заносах, — дедушка кубан наливал. Еле несешь, бывало. Мед — тяжелый. Что да, то да. Я и бутылку, пока та не завернута в тряпку, держал в руке, как литой снаряд, готовый выскользнуть и треснуться об землю. И кубан я помню — глиняный кувшин без ручек — и то, как дедушка заранее готовил его перед отправкой меня рабочим поездом в город. Он приводил меня на разъезд, договаривался с проводницей — давал ей в бутылке меда — и долго, я видел в окно, стоял, глядя вслед поезду, у шлагбаума. Для него, конечно, все мы были одинаковые: дети его — моя мать и дядя Вася — и внуки. В этот день я надолго разлучался с сестрами: старшая уходила на прополку в колхозное поле, Валя же зачем-то должна была съездить к родственникам в район. Хозяином в доме как бы оставался я; тетя Маруся сказала мне, что сделать за день, чтобы не сидеть барином. Горько было провожать Валю, собиравшуюся на шоссе к автобусу. Она переоделась, переплела косы. Угольные глаза ее часто останавливались на мне, а мне никак не сдержать было жажды обратить на себя еще больше внимания. Я проорал не своим голосом какие-то куплеты, потом другие — уже по случаю, потому что оцарапал руку: “Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его...” Сестры захихикали, а рану взялась посмотреть не Валя, а Тамара... За отгородкой у дверного проема висело дядькино ружье. Я его не раз брал в руки — увесистое, длинное, с вытертым брезентовым ремнем. Я откинул занавеску, увидел “тулку” и снял ее с гвоздя. Выйдя на середину горницы, взвел оба курка и вскинул стволы. — Раз в год и незаряженое стреляет, — повторила свое Валя, наблюдая, как я направил стволы на нее, на Тамару, потом на пустую миску на столе. Нет, лучше испытать какой-то радостный холодок от ее лица за маковым зернышком мушки у самого дульного среза. От ее, от Валиного, лица... Я опять перевел стволы в ее сторону, увидел за окружьями дула чистый лоб, сощуренные глаза, в которых никогда не разглядишь зрачков, потом приоткрытые губы, которых еще никогда не касался так, как касаются те, кто любит... Но держать ружье перед собой тяжело, я поднял его вверх и отыскал на потолке еще одну цель — сучок в доске возле матицы. И надавил первый курок... От страшного удара в плечо я вскрикнул. Гром выстрела покрылся визгом сестер и стуком двери, в которую всем телом бухнулась Тамара. Валя упала на пол; потом, согнувшись, тоже бросилась к двери. Уши заложило, по горнице расходился дым. Я с трудом поднял руку и увидел кровь — при отдаче сорвало кожу с косточек большого и указательного пальцев. Гудело, не переставая, плечо, к которому я слабо притиснул приклад, когда рассматривал на потолке сучок. Все дальнейшее происходило как бы и не по моей воле, но действовал я, не колеблясь. Не без труда переломив стволы, вытащил целый патрон и повесил ружье на место; достал с полатей рубашку и сумку, с которой был отправлен в деревню, и огородами, а потом полем побежал к разъезду. Когда позже я вслед за дядей Васей поднялся на чердак и в кровельной жести увидел плотное созвездие зияющих дырок, а под ногами — прошитую дробью засупку потолка, меня затошнило. Как безумный глаз, светилось отверстие в потолочной доске на месте выбитого сучка. — Смотри, ирод, смотри, — вздыхал дядька. Ружье у него висело незаряженным; не так давно он достал его поглядеть, почистить. А тут — бешеная собака, решили ее пристрелить. К дядьке, оказывается, приходили деревенские, просили его сделать это. А ни у кого другого в Заносах и не было ружья. Дядька набил патроны картечью и ружье оставил на переборке, чтобы было под рукой. Это все я узнал позже, а пока, перевязав за кустами руку, для чего пришлось оторвать нижний край рубашки, я — потерявший в один миг и покой, и любовь, и вообще, кажется, все, чем живет нормальный человек, — картофельным полем уходил все дальше от двери. Тридцать пять километров до города мне было не одолеть, о пути пешком я и не думал, нужно было ждать обратного рабочего поезда. К середине дня я устал жалеть себя, выплакал все слезы. Сидел в боярышнике, считал вагоны проходящих поездов — это отвлекало от мыслей о крайней безнадежности, чем представлялось мне мое положение. Потом я заснул, и разбудил меня чей-то голос: — Вот он, голубок... Это был голос путевого обходчика, хорошо мне знакомый. Обходчик бывал у дяди Васи, брал у него лошадь. На линии стоял сам дядя Вася. Когда я попытался выдернуть из жестких пальцев обходчика свою здоровую руку, дядька крикнул: — Ну-ну! Брось это дело! Он подошел, увидел кровь, просочившуюся сквозь тряпку. — Вон, вишь что... Как же это ты!.. У него даже голос изменился. — Домой поеду, — сказал я, не попадая зубом на зуб. — Поедешь, а чего ж. Токо не щас, — дядя Вася перехватил мою руку. — А щас — вон лошадь стоит. Дорогой он сказал: — Вальку заикой сделал... Я поник головой. Но это была неправда; дядька сказал это так, для испуга. Первые же валины слова прозвучали четко и ясно: — Стрелок несчастный!.. Однако за ними я не услышал особой обиды и злости; и глаза валины говорили о другом: о прежнем, о том, чему свидетелями были ночные встречи наших рук и сбивчивый шепот. Благодарное чувство сжимало мне сердце. Тамары дома уже не было, а вечером, когда собрались все, тетка устроила мне истинную пытку. Она ругала меня, не выбирая слов, — тут дала себе волю. Я сидел, как оплеванный, горло перехватили спазмы. Но до слез дело не дошло, пролила их в конце концов сама тетя Маруся. — Хоронили бы щас их... Или — какую... Вот твое баловство, тварь ты такая! — Тетка вытирала глаза и повторяла: — Тварь ты такая!.. Сильно досталось и дяде Васе. Он долго терпел, потом проговорил: — Богу бы молилась... Тетка вздохнула. Чуть позже успокоилась, подозвала меня: — Развяжи руку, покажи... Отлепив листья подорожника — это уже дядя Вася нарвал их мне — тетка принюхалась и сказала: — Иди помочись на нее. Я не успел ничего сказать. — Иди-иди, — добавила она, — против воспаленья. Через секунду я встретился с валиными глазами, она прикрыла их и кивнула головой. Я пошел в сени. Гром отгремел, но в душе покоя не стало. В ушах то ближе, то глуше звучали выплеснутые на мою голову теткины слова. И “просто убивец”, и “тварь” были не самыми обидными; я был, оказывается, и “трутнем”, и “нахлебником”. Назавтра я уехал, неделю не дожив до намеченного дня. Отвез меня на разъезд дядя Вася, а с Валей я простился утром, в хлеву. Мы пробыли там всего несколько минут, по существу, простояли молча. — Опять до лета? — Валя смотрела на меня, не мигая, глаза были открыты широко, напряженно. Я пожал плечами. Я не был уверен, что через год снова приеду сюда, так же, как и в это лето. Где-то в глубине души, в тайне сердца уже жило сомнение; его холодок отнимал у меня последнюю волю. Я шагнул к Вале, чтобы поцеловать ее, но близкий материн крик: “Валька!” — заставил ее отшатнуться. — Валька-а! — сбавила голос тетка, остановившись у поскотины, и добавила: — И чего вы там? ... Дядя Вася был очень похож на своего отца, моего деда Сергея. Те же залысинки с двух сторон, тот же широкий нос; единственное — бороды не хватает. А у деда на фотокарточке борода и усы, как у хорошего иерея; две проталинки надо лбом — заметнее, глубже. Дядька вроде бы уже и жалел меня в телеге. Но слов особо не тратил. Оглядел два раза, цыкнул без нужды на лошадь, сказал жестко: — Ну, вот!.. Ему и не хотелось, наверно, отправлять меня домой — что там мать подумает, что скажет. Он знал, как трудно жилось нам тогда. Сажая меня в вагон, он подал мешок с ведром картошки и сумку, в которой были бутылки с молоком и медом. Я не сразу протянул руки, и дядька крикнул: — Держи!.. Обалдуй! Проводница помогла мне поднять груз. Дядька изрек еще что-то, но я не расслышал, потащил вещи в вагон. Когда устроился и поглядел в окно, мимо уже проплывали посадки, поезд набирал ход. Тяжело думать об этом, но с той поры я не бывал в Заносах. Казню себя за это и, чем дольше живу, тем больнее сердце от этой вины. Так уж все сложилось — уже с седьмого класса я уехал на Север учиться рыболовному делу. И так и осел там. Эхо расставания далью разнеслось. Но Валю я видел. Прошло много лет, и однажды, когда я был в отпуске и проездом на Юг, остановился у матери, она сказала мне, что Валя лежит в нашей больнице. — Что с ней? — спросил я. — Опять машина ударила. — Да что же это такое!.. — А вот. Как нынче ездят богатые? Как чумные, никто им не указ. Сама сто раз оглянусь, пока пойду. — Ну, не везет же ей... — Да, сынок. Дело в том, что задолго до этого Валю уже сбивала машина в райцентре. Знал я об этом из материнского письма, которое нашло меня далеко от родных, на промысле, и долго не мог избавиться от горького ощущения, что и сам вроде бы был причастен к Валиной судьбе. Не моими ли руками она уже замахивалась на сестру в то мое последнее деревенское лето? Какая сила отвела тогда беду? Ангел ее?.. Изведала ли она настоящую любовь? Хотя кто знает, где она бывает настоящей — на восходе солнца нашей жизни или в зените... В больницу я пришел в тот же день, разыскал палату. Вошел и не сразу узнал Валю, хотя обвел взглядом всех лежащих и сидящих на кроватях женщин. Но вдруг одна из них подняла руку... — А я тебя узнала, — сказала Валя, когда я подошел и сел у нее в ногах, — хотя, конечно, ты изменился. Но не очень, не как я, правда? — Как самочувствие? — ушел я от ответа. — Скоро подремонтируют? Правая рука у нее была в гипсе, из-под него торчали пальцы со следами засохшего раствора. Я тронул их, осторожно прижал ладонью. Потом поймал ее глаза... — Валя... — Да! — А помнишь?.. — Что? — почти шепотом ответила она, я почувствовал, как под рукой слабо дрогнули ее пальцы... ...В последний раз я проезжал мимо Заносов минувшей осенью, в годовщину жестоких московских событий. Их уже поминали спокойнее, попутчики больше говорили о скудости жизни и разорении земли. Я стоял у окна, и зримые картины подтверждали это. Большие постройки — скотные дворы, склады, мастерские — одинокие, продуваемые ветром, стояли без окон и дверей, а то и без крыш, и ни скотины, ни людей вокруг — ничего живого поблизости не было видно. ...Я глотал воздух сухим горлом. Скоро должны были начаться знакомые места: березовая рощица на горушке, потом впадина и река. Потом — как стриженые — посадки, на переезде еловые, а дальше кустовые. Листья уже облетели, лучше будет видно все: и дорогу к деревне, и избы под бугром. Может, удастся поймать взглядом и дяди Васину, в середке. Еще было время, и я закрыл глаза, пытаясь вспомнить лица моих деревенских родственников. Дед проявился в мутном мареве перед глазами сразу — с карточки, висящей у меня дома на стенке. Сжатые губы и суровые глаза дяди Васи тоже легко наложились на дедов портрет — он увиделся живым, в движении, в телеге, что везла нас в день моего прегрешения к разъезду. Я прислонился лбом к стеклу; от холода его напрягся, сжал веки сильнее. И темнее стало перед глазами, где по моей воле оживали следы минувшего. Из мрака зыбко, едва различимо проступило Валино лицо, или ее облик. Облик, образ — иначе мне не сказать. Не больничный, а тот, ранний, девчоночий. Она поворачивала голову, шевелила губами, смотрела, не моргая, как с иконы... И — исчезла, и опять — живой, в движении — возникала в дрожащем мареве. Я пытался увидеть ее глаза... ...Грохот переезда налетел обвалом. За окном мелькали ели, голый боярышник. Будка и шлагбаум остались уже позади... В разрывах кустов стала видна наша деревня — серая, притиснутая тучами к подошве холма, на вершине которого раньше всегда золотилось поле. В тот раз я его не увидел — издали макушка холма выглядела брошеным местом без единого следа жизни — людей, тракторов. Не разглядел я и дядькин дом в поредевшем порядке. Мне даже показалось, что его уже и нет на месте...
BologovAA
14 сентября 2013
+1
Нет комментариев
|
|
В роду Чистой не было иной крови, кроме волчьей. К потомкам ее в десятках и сотнях колен не примешивались сородичи ни с Юга, с грубым, грязно-рыжим волосом, темнеющем к хребту, ни с Севера - густошерстные, со светлой подпушью, впитавшей в цвете голубое свечение долгих снегов. Ее темно-серый подшерсток, со свинцовым отливом понизу, золотящийся наверху, был родственен утренним туманам, застилавшим глухие лога и голые поляны, когда она быстрой тенью пересекала их на пути к добыче. Лишь неширокий остевой ремень на спине чернел сгущающейся к холке полосой. Шерсть здесь была высокой, жесткой и плотной. Она берегла и в зной и в холод, спасала в такие морозы, когда начинало обманывать чутье и оставалось доверять лишь уху да глазу - не столько острому, сколько верному в памяти, сохранявшему в раз виданной картине и самое малое пятнышко.
Барсучья нора под корневым выворотом, где Чистая решила щениться, ее устроила сразу. Она опустилась возле входа, полежала какое-то время молча, не шевелясь, потом зевнула и тряхнула головой. Черный понял - останется здесь... Это был их третий выводок. Из предыдущего, самого крупного в жизни волчицы, осталось два брата-переярка отцовской масти - черной с проседью окраской на спине и мышиной подпушью. Этот след тянулся от той праматери Черного, которая, потеряв первого спутника, увела у пастуха овчарку-кобеля и принесла от него первое темное племя. Черному и в голову не приходило сомневаться в ее полном подобии себе, хотя он и твердо знал разницу в их силе и обязанностях. Волчица была старше и опытней, минувший гон был, верно, ее последним неодолимым беспокойством, наступавшим к исходу каждой зимы. Но так же, как повелительно-призывно влекла она к себе Черного на хрупком насте, вяло и равнодушно останавливала она на нем взгляд теперь, у пригретого солнцем гнезда, где еще не открыли глаза щенки. Пятеро были дымчато-серы, шестой - заметно темнее, с намеками рыхлых полос. Он и в весе отстал. Давая сосцы, она чувствовала, как слабо мнет он свой, как дрожит, проминая лапами ее живот. Он вырастет черным, с метой дальней вины, мало похожий на остальных своих братьев и сестер. Когда глаза встречались, матерый настораживался. Но Чистая отворачивалась и, опустив веки, снова замирала. Она слушала и округу, и себя. Все звуки леса, и поля на косогоре, и шумной дороги за рекой были знакомы и привычны. Редкий новый заставлял придержать дыхание и шевельнуть ухом. Звук прояснялся или исчезал, и тело опять расслаблялось, слух обращался в прошлое. ... Это была ее земля, другой она не знала. Она не ходила в чужие владения, не прибивалась к большим стаям, она была волчицей семьи. Томилась в мучительном гоне, щенилась, вылизывала прибылых, учила и отваживала от себя переярков. Сколько их, выросших, отчужившихся, снует ночами по соседним тропам, она не ведает, но помнит всех, потерянных в беде. Каждый из них своей гибелью добавил ей и опыта, и знаний... В деревне еще хорошо помнили случай, когда волк на глазах у соседки напал на внучку безрукой старухи на лесном конце и, схватив зубами, несколько раз ударил оземь. А потом поволок с дороги. На крик соседки выскочила из дому бабка, завопили обе, но зверь не оставил дела: перемахнул через плетень, ходом потащил затихшую девчушку к лесу. Там и загрыз, пока собрались все, кто оставался в селе, и насмелились войти в ельник. От страдалицы и нашли всего изодранное пальтецо да клочки платья. Волка еще не раз видели - у коровника, где он выбирал из навоза последы, на выгоне - там пытался отбить от стада телку. Потом исчез - видно, попался кому на мушку. Но в самой деревне охотников не было, и когда через несколько лет серые снова объявились вблизи ее дворов, бояться им было некого. Первые вести пришли из леса. Прокладчики новой линии наткнулись на молодого лося-быка, который подпустил их на несколько шагов и только тогда с трудом поднялся на ноги. На шее и задних ногах его еще кровоточили рваные раны от волчьих зубов. Лось не сходил с места, лишь поворачивал, следя за людьми, опущенную голову. В другой раз две женщины на санях услыхали треск сучьев, а потом увидели выбежавшую из ольховника на большак лосиху. Снегу было много, по брюхо ей в яме у обочины, и видно было, как шатало лесную корову от усталости. Но она, не останавливаясь, двинулась навстречу саням. И тут, как из сугроба, на дорогу выскочила пара волков. Первый быстрыми прыжками нагнал лосиху вцепился в бедро и, волочась, повалил на бок, а подоспевшая волчица сходу полоснула клыками по животу... Обмершие женщины, заворачивая храпящую лошадь, чуть не опрокинулись с санями... Через некоторое время беда подошла и к селу - волки задрали пасшуюся за околицей лошадь-двухлетку. Выев внутренности, они - как было видно по следам - пробовали тащить ее вниз по склону луговины. В середине лета, растеребив щепу на крыше, они проникли в овчарню и перерезали всех овец. Дивно было, что волки не только сумели выбраться наружу через дыру, но и уволокли двух ярок. На картину этой бойни детворе смотреть не дали, кровяные отметины волчьих лап были размерами с кулак. - Семья тут промышляет, - сказал деревенским присланный из города охотинспектор. - Сейчас у них самый жор, прибылые тянутся. Он рассказал несколько историй про седых налетчиков. Опросив кого сумел, походив окрест, показав местным карту их полосы, где общим советом прикинули возможные места логова, гость высказался: - Вон у вас мотоциклы в деревне видал, телевизор смотрите, а хотя б одно ружье кто имел... Нет- нет, да постреляли б, дали понять... А то они ведь, - он кивнул в сторону раз мытой сумерками опушки, - знают, их учить не надо. Чего им бояться... Люди и сами чувствовали себя виноватыми. Инспектор успокоил: - Есть у нас спецы по этому зверю, не я один. Соберемся... Но собрались охотники только зимой, когда в деревне опять пострадали от серых - они чуть не из рук хозяйки вырвали необгуленную корову, которую та вела показать в соседнее село. Увидев в поле скользящие наперехват темные бугорки, молодайка замедлила шаг, потянула ременный повод. Сердце екнуло - волки! Корова взбрыкнула, выдернула вместе с варежкой ремень и пустилась кругом по запорошенному жнивью. Бежала недолго - волки повисли над ней всем скопом. Как владелица ее прилетела, очумелая, домой, первое время и объяснить не могла, долго после заикалась. Волков выследили, взяли в обходной круг. Дневка их оказалась в буреломном углу леса, откуда вела хорошо набитая тропа. К концу второго дня сделали оклад, распоряжался всем старый знакомый инспектор. Загон набрали трудно, согласились пойти в него лишь несколько мужиков и парней, из баб не уговорили ни одну. - Шуметь особо не надо, - объяснял главный, - для зверя вы случайное явление: показались, потревожили, заставили сняться и уйдете. И не в волю ему вставать да уходить, а то и бечь от вас, да что делать, придется. Пусть подымется, потянется, разомнет кости, ухом-носом поведет - будь вы неладны! И шагнет неслышно, а за ним и другие, на тропу – она близкая, своя... Пойдет легкой трусцой, как тень лесная, - никто его не слышит и не видит. Загонщики понятливо кивали. - Но и не крадучись ступайте, не таитесь... - Распорядитель и сам уже чувствовал сладкую тревогу, давно на волка не ходил. - Идите вольно. Ветка ли хрустнет под ногой, слово какое сорвется - ничего, бывалый волк сто раз слыхал это. - Да... - И все же здесь опасность, и он уходит туда, где тихо, то есть где стоят номера... На тропе у двух сосен инспектор встал сам. Место было хорошее: до тропы шагов двадцать, видны даже ее неровные края. Но вот скрытость... Ему и поначалу показалось, что он будет виден в проеме дерев, а пока стоял, оглядывал участок впереди, пришел к выводу, что стоит явно неудачно, и перед самым загоном перебрался под густую ель, ближе к звериному пути. Ветер, как и накануне, тянул со стороны оклада. Появившаяся на прогалине волчица шла спокойно, с лежки ее стронули мягко. Опустив голову, она вдыхала голый след своего выводка, ничто его не перебивало. Приблизившись к ели, волчица вдруг остановилась и подняла голову, и замерла. Закаменел и охотник - зверь находился в десяти шагах, взгляд его прокалывал сплетение еловых веток. Видны были складки на лбу, ворсистые наплывы щек. Низкая ель была хорошо знакома, и до сих пор волчица не обращала на нее внимания, а сейчас ее что-то насторожило. Она стояла и прислушивалась, и смотрела. Опасного ничего не увидела, но все же развернулась и не спеша двинулась по следу назад, затем свернула на снежную целину и стала обходить вызвавшее беспокойство дерево. Ветки мешали изготовить ружье, охотник не шевелился, а когда волчица, осев в глубоком снегу, уже немного дальше, чем в первый раз, снова остановилась напротив ели и неподвижно уставилась на нее, стрелок не выдержал. Проткнув стволом ветки, не успев поймать как следует планку, он выстрелил в метнувшийся серый ком и тут же во второй раз - в мгновенно отдалившуюся, мощным прыжком перемахнувшую сползшие с куста флажки и вырвавшуюся из оклада волчицу. Инспектор утверждал, что видел, как от второго выстрела та сбилась с маха, и что он, выходит, зацепил зверя, но крапин крови и смены шага ни на месте, ни дальше по следу не обнаружилось. Неудача главного была покрыта другими стрелками, на своих номерах они отстрелили крупного зверя и двух прибылых - последних чистых детей волчицы. Сама она, оглушенная дуплетом у ели, с обожженным картечиной хребтом, долго лежала в завалине валежника на склоне глухого лога в глуби леса. Она слышала много выстрелов, прозвучавших вслед за нацеленными на нее, и чувствовала, что это они помешали собраться ее семье в новом обжитом углу. Когда отдалился страх, волчица встала, поводила поднятой головой. Бесшумно выбравшись на чистое место, постояла, прислушиваясь, и уверенной рысцой направилась к деревне. Своих зачуяла далеко от нее, на дороге, где убитых волков перекладывали с волокуш в городскую машину... И оба прибылых сына, и их отец оставили следы гибели, они не были живыми. Трое переярков, среди них и молодая волчица, в оклад не попали, бродяжили, их близости она не обнаружила и, посидев какое-то время на скрытом снегом жнивье, двинулась назад, к лесу. Чистая досталась Верному, своему первому волку, непросто. В малый снег, до земли выбитый когтями, он завалил на поляне соперника и терзал его до тех пор, пока тот не смолк. Прикончили его остальные. Из них никто больше не пытался оспорить его право на первый тон с молодой, сильной волчицей, но она, убедившись в его превосходстве над другими, не сразу пошла впереди. Долго еще, и днями, и зорями, уж вздрагивая под волнами неясного зова, лежала, закрыв глаза, ждала своего часа. И когда он наступил, со стоном поднялась с лежки и, не оборачиваясь, словно заторопилась куда-то. Верный тенью вырос рядом. Первых щенков они выходили без потерь, переярки росли вместе с новым пометом. Чистая приносила щедро - не хватало сосков, а летом пищи. И тут она поняла, кто есть Верный. Он обучил всему, чем она жила, - поискам добычи, чувству опасности, умению смертно помнить ошибки. Он остерег ее однажды от привады, вблизи которой был поставлен капкан, и в памяти ее осталась вечная зарубка. Он учуял его глубоко под снегом; они оба видели, как, прождав понапрасну много дней, человек оглядел их следы на дальних подступах к приваде и убрал ее - павшего закаменелого теленка - и капкан из-под снега. Роковой запах железа доносился, кажется, и до них, лежавших рядом, вслушивавшихся в деревню. С Верным она пережила упоение схватки с секачом, когда они семьей взяли его в круг и, запутав наскоками, завалили наконец и растерзали еще живого. А ее первая с ним охота на безрогого быка! Всякий раз, услышав в воздухе лосиный запах, она вспоминает прежде всего эту их погоню по краю болота... Вслед за Верным они крались к быку с подветра, сзади, с удобной стороны. Верный должен был сделать первую хватку за ногу, а она и три их переярка тоже в хватках повиснуть на безрогом. Но он почуял их и рванулся напролом в чащобу. Там его было не взять, и они по знаку Верного цепью отсекли ему дорогу в глубину. Между лесом и болотом шла полоса тверже, с редкими кочками и кустами, только там можно было свалить недоступного в чаще лося. Но он, видно, тоже был опытным зверем, и из леса его удалось выгнать, потеряв немало сил. Можно было оставить дело на время, но в ушах сквозь глухие удары крови слышалось, как скулят подросшие прибылые на логове, ждущие их с добычей. И они двинулись на быка. Он охнул и бросился к просвету, где не было волков, - они сами, кажется, дали ему свободу. Но Верный в несколько прыжков настиг его и в последнем, самом крутом, вцепился с лесной стороны в подхвостье. Чистая кинулась к другой ноге и вырвала зубами клок потной кожи - с мясом, с жилами, с кровью. Переярки летели впереди. Один из них попытался схватить лося за нос - известный прием, - но тут же, вывернутый в воздухе, шмякнулся на мокрый кочкарник. Когда безрогий упал, и Чистая, метнувшись к горлу, оборвала его дерганье, она не думала об отставшем молодом волке. От жаркой туши истекал дурманный дух свежья, воздух загустел, все другие запахи исчезли. Даже Верного, лежавшего по другую сторону распластанного быка, волчица не чувствовала, только видела да ухом отмечала, что он делает, как фыркает, очищая ноздри. Отяжелев от съеденного - глотали куски, чтоб в гнезде отрыгнуть чуть взятую соком пищу волчатам, - прошли назад хоженым следом и увидели под осиной неподвижно сидящего переярка, не сумевшего увернуться от ноги безрогого. Он даже не открыл глаз при их приближении, удар копытом пришелся в голову. Потоптавшись перед ним, родители направились к логову. С тех пор он им не разу не встретился. А в один из коротких зимних дней Верный, оставив холодный прощальный след у деревенской развилки, и сам тоже исчез, навсегда. О нем напоминали какое-то время лишь старые метки на их путях - постепенно ослабевшие, выветренные, а потом и занесенные поземкой. Две линьки Чистая кочевала одна. Потеряв семью, сплетенный узел, она и впрямь, как выпавшая веревочная прядь, влеклась куда ни шло какой-то странной, вроде бы и не своей волей. Сила притяжения логова, где уже в нескольких местах она приносила потомство, ослабевая к оголению леса, вновь тяготила душу по весне, с первыми подтаями наста, с ранними, иногда не ко времени, голосами перелетных птиц. Не сразу поняла Чистая, что значит охотиться в одиночку. Выследив однажды кабанью пару, поняв, что та заметила ее, она увидела, что страх не погнал свиней прочь, они только сбились, встали плотнее и продолжали пастись на краю поляны. А холодок испуга подул внутри нее, как знак остереженья: здесь и пожива, но и скрытая опасность. А давно ли с Верным и четырьмя прибылыми они в середине зимы легко взяли двух подсвинков, отбив от стада... Свиней стронули с лежки, подползая с трех сторон. Кабаны, обнаружив осаду, разбились: самый крупный рванулся наверх по склону холма, три других помчались по равнине, а подсвинки в другую сторону, где за поваленной сосной таились в засаде они, матерые. Чистая первой атаковала ближнего из гонимых загонщиками, на второго налетел Верный. Из зубов волчицы подсвинок вырвался и вновь кинулся бежать, но тут же был настигнут и ею, и подоспевшими прибылыми. Без Верного она чаще мышковала, давила белых зайцев, а иногда и лис, есть которых почти не ела, но, встретив, залавливала и, как бы в возмещение потерянных усилий, губила. На крупных лосей не нападала, тем более однажды, это было в первые морозы, легко справилась с сеголетком, оставленным на проходе взрослыми. Небольшое стадо их даже не остановилось, когда она, покрутив теленка, в одной из удачных хваток вырвала у него опорную мышцу задней ноги. Вскоре он и совсем пал. Выстрелов в лесу она слышала немало, особенно в осень и зиму, и всякий раз, как ухо отмечало звук, между лопаток, по старому следу свинцовой горошины, полосой пробегал острый жар. И сразу в памяти вставали существа, без которых ощущения огненных вспышек как бы не существовало. Она знала о людях значительно больше, чем они о ней. Несколько раз подолгу лежала вблизи деревни, выслушивая ее живое дыхание. Не видя глазами, могла определить, в какой избушке скрипнула дверь, чей голос прозвучал в утренних сумерках, в каком дворе залаяла собака. Лай беспривязных деревенских дворняг не вызывал в ней, как в первое время, ненависти и злобы, она даже начинала испытывать нечто подобное беспокойству, если долго не слышала их привычного перебреха. Голова была ясной, слух чистым до тех пор, пока порыв ветра не приносил теплого запаха лошадиного пота или овечьей шерсти, от которых слабела голова и начинала мелко подрагивать нижняя губа. Это были минуты, когда приходило успокоение, когда подтаивала никогда не исчезавшая тревога за прежние и будущие выводки, за себя, за весь волчий род. От деревни тянуло неистощимым покоем жизни. Можно было подолгу лежать так, прикрывая время от времени глаза, изредка настораживая одно или оба уха на новый звук: крик птицы, обнаружившей поживу, визг поросенка от хворостины или пинка хозяйки, оклик человека. Человеческий голос сразу перекрашивал все и видимое, и сохраняемое в памяти - ближние подворья и крыши изб, конюшню на краю села и широкую, как выгульные поляны, улицу, даже дорогу в лесу, если она вдруг высвечивалась в сознании... Все обретало яркий огненный цвет и заставляло щуриться и вздрагивать от возросших ударов сердца. Или это кровь приливала к глазам и меняла цвета окружающих предметов? Чистая даже помнила некоторые слова, которыми перебрасывались люди, и могла точно найти место, откуда они впервые исходили. Голоса людей заставляли напрягать и даже подбирать лапы, сухо сглатывать и навострять уши. В душе боролись две стихии: крайний страх снова оказаться под прицелом ружья двуногого, испытать его неведомую силу, и жгучий интерес постичь это существо. Это был гонитель, первый враг, и многое о нем не было тайной, но он владел страшной властью - непредсказуемостью действий, и, кажется, никакой опыт не обеспечивал удачи в расхождении с ним. Как-то волчица, недолго пролежав на взлобке за огородами, явилась туда и на второе утро, подошла к своему месту со стороны выгона, обойдя деревню вокруг. И вдруг шерсть на холке вздыбилась, как поднятая ветром: в нос ударил свежий запах человека. Чистая застыла, огляделась: рядом с ее прошлым следом шел след преследователя, он сворачивал по ее цепочке к полю и там терялся из виду. Ее тропили!.. Коротким шагом, изредка останавливаясь, она пробежала по отпечаткам ног человека до поселка, где и они, и ее следы уже не были видны глазу и где человек тропление прекратил. После этого у деревни она не появлялась долго. Села притягивали более всего в середине лета, когда подросшие прибылые, особенно в крупном помете, требовали много пищи и когда она с Верным в поисках ее сбивалась с ног. Живность в лесу редела, доступней всего оставалась дворовая скотина, выгоняемая на выпас. Однако в ближней деревне они не искали добычи, на это мог толкнуть только крайний случай. Нарушил этот закон Черный, когда после одного из очередных походов с логова, пробегав по всей их обжитой округе без удачи до рассвета, вернулся к гнезду с одной из деревенских собак в зубах. Пес был невелик, Чистая знала, с какого он подворья, - не раз слышала его ублюдочный визгливый голос. Он был разодран голодными волчатами неумело, но быстро, им с Черным осталось догрызть лишь несколько костей. Черного она приняла рано, в начале весенней линьки. Он не отбивал ее у других - одной ей уже было невмоготу, тяготил какой-то долг, который она обязана была вернуть лесу как хранителю жизни. И она сразу повлекла Черного по тропам, пропитанным тревогой грядущего обновления. Щенков принесла в старом логове, в разъеме развалившейся, оставленной лесоустроителями поленницы, которую проросли молодые елки. Правда, скоро же после щенения, заподозрив близость человека, едва прозревших волчат она перенесла в завал сушняка на краю гнездового урочища. Самый слабый в последнем помете открыл глаза лишь к приходу постоянного тепла, когда все вокруг зазеленело и птицы умолкали лишь на короткое время захода солнца. По их крикам и пению Чистая определяла время, узнавала обо всем, чем жил лес в ближних пределах. Впервые она покинула логово, когда щенки научились по ее фырку тут же вроссыпь затаиваться и не подавать голоса до тех пор, пока не минует опасность. Они уже могли различать все главные запахи места, где увидели свет и окрепли, где вкусили живой крови, умерщвляя полузадушенных зайцев, приносимых к гнезду отцом. Чистая пошла на охоту, когда увидела, что Черному одному кормить выводок уже не под силу. С логова они снялись вместе и в ночи же удачно выкрали на хуторе у границы леса козу. Напуганную, потерявшую способность биться за жизнь, козу несли, меняясь, и отдали волчатам еще глядевшую лиловыми глазами. Усталые, наблюдали, как играют с нею головастые щенки, как наскакивают и прикусывают в удобных местах живую плоть и тут же, подрожав в горячке, отпускают. По тому, как щенки стали в нетерпении вырывать добычу друг у друга, стало ясно, что той пришел конец. Самый крупный тащил в свою сторону, другие упирались, тянули на себя. Хилый, с полосами, скулил и тоже пытался ухватиться за что-нибудь зубами. Чистая вздохнула. Волчата прекратили возню и, так же торопясь, как в борьбе за поживу, стали тормошить ее и поедать. То и дело, однако, вспыхивала грызня, кончавшаяся писком темного щенка, мешавшего, кажется, всем в логове. Волчица морщила нос, обнажала клыки; ее предупреждающий тихий рык был обращен одинаково и к нахрапистым оглоедам, и к тщедушному последышу. Скоро все потомство уже лежало, сгрудившись кучкой, в тени можжевелового куста; щенки тихо дышали в лапы и спины друг друга. Родители, подчистив все, что осталось от их еды, тоже отдыхали, - волчица рядом с выводком, Черный поодаль, скрытый от глаз. В первый раз, кажется, он чувствовал себя спокойно: Чистая вышла на охоту, теперь ему будет легче. Волчата уже рвутся на волю, их следы можно заметить и не у самой норы. Пройдет немного времени, и потянутся еще дальше - тыкаться носом, прислушиваться, узнавать - что есть свое, кроме ямы. Черного морила дрема, перед глазами желтела зыбкая пелена, она все темнела и темнела. Дремала и Чистая, но всякий раз, когда ровное течение звуков вдруг перебивалось шелестом ветра в вершинах деревьев, птичьим вскриком или сонным вздохом щенка, ухо твердело, веки медленно поднимались и неподвижные глаза на время задержанного вдоха яснели и твердели. Она тоже думала о волчатах, о том, что им уже мало места под корнями сосны и подле, и что тропки их скоро побегут все дальше и дальше в глубь леса, и ни клыки ее, ни какая другая сила не остановит их в мучительном стремлении уйти от нее навстречу опасностям жизни. Так было всегда, и так будет, и она уже привыкла к этому. Смириться с этим невозможно, как невозможно добровольно отказаться от жизни, но осознать неизбежность - она это уже сделала. Ушли первые, ушли, считай, и летошние переярки, уйдут и эти, вздрагивающие во сне, они уже, без нее, пометили ближние полянки, где притоптана трава. Скрытое движение за спиной подняло Чистую на ноги, она досадливо фыркнула. Из-за опушенных редкой зеленью кустов показались возбужденные переярки, оба сразу подбежали к месту, где малые раздирали козу, полизали траву, похрустели последними объедками. Оба были голодны. Чистая предупреждающе рыкнула, молодые волки поняли, отошли от прибылых подальше. А те уже зашевелились, стали подниматься на нетвердые лапы. Волчица обошла их и сделала несколько шагов в направлении старших, остановившись, молча посмотрела на них, рядом встал неслышно подошедший Черный. Молодые нервничали, один из них даже крутанулся на месте и коротко проскулил, потом едва сдерживаемым шагом побежал по тропе. На первом же повороте оглянулся - сродники трусили следом. На краю выгона, где по утрам собирали стадо перед пастьбой, полуярки заметили кобылу с жеребенком. Раньше ее в деревне не видели - пегая, с длинной чистой гривой и таким же хвостом. За кобылой смотрел подросток, он сидел в тени и строгал ивовые прутья. Пока волки наблюдали, лошадь передвинулась ближе к лесу, где трава была гуще и сочней, крутился рядом и жеребенок, изредка тычась головой в брюхо матери. Лошади, а с ними и пастух, постепенно смещались к зарослям, вот уже хрустнула сухая ветка под неторопливым копытом, донесло молочный дух кобыльего паха, и переярки растаяли в чаще. Вскоре вместе с родителями они вышли к опушке и на ходу разделились: старые обежали выгон и залегли по сторонам слабо обозначенной дороги, переярки, скрываясь за деревьями и кустами, стали красться к лошадям. Пастуха духом подняло с земли резкое ржанье пегой, обожгла мысль, что ее ужалила змея. Раздался быстрый топот и рваный храп - такого подросток никогда не слышал, даже когда жестоко дрались жеребцы. Он выбежал из кустов и увидел, что пегая кругом гонит по закрайку поляны, а невдалеке сучит ногами сбитый наземь жеребенок. Шею, голову его прижимали к земле два вздрагивающих волка. Сухо слиплось горло, прилила тошнота; паренек присел, чтобы его не было видно, и тут же упал на руки, притиснулся к земле. Надо было не дышать, чтобы не было слышно, и он перестал втягивать в тесные легкие воздух. Все видевшие матерые, отдалившись в стороны, открыли дорогу в деревню, - лошадь, все так же утробно храпя, пронеслась по ней к конюшне. Парами, сменяя друг друга, волки утащили жеребенка в чащу. Когда шорох за ними стих, пастушонок выбрался на поляну и прошел возле места, где они свалили маленького, увидел примятую, багрово окрашенную траву и заикал, и, отмучившись рвотой, икал долго, до самой деревни, где в конюшне никак не могли успокоить бившуюся в стойле Ласку, как звали племенную пегую кобылу. Тремя днями позже в овражном отъеме леса, где находилось логово, появился усталый человек. Это был хозяин трелевочного трактора, заглохшего на перегоне и оставленного на лесной дороге. Тракторист, хоть и подолгу бывал в лесу и отдавал ему немало сил, плохо разбирался в его законах. Покинув машину на дальней трассе, где редко слышался моторный рокот, держась направления по солнцу, он двинулся к деревне через лес. На пути и попался заросший мелколесьем лог с редкими полянами, обжатыми плотным ельником. По дну оврага, теряясь в сетях валежника, тек ручей, около него человек и остановился. Заблудиться он не мог, он и не опасался этого, но идти пришлось по незнакомым местам, где он никогда не бывал; и он не мог точно определить, сколько осталось до деревни. Напившись воды, утомленный путник присел на сухой бугорок, поглядел против солнца на пологий взлобок, который надо было одолеть, и прислушался. Послышалось, что кто-то проскулил. Похожий на это звук повторился, тракторист поднялся и шагнул к плотному ряду низких елок, у подножия которых виднелось что-то похожее на лаз. Внизу было свободнее, а на высоте груди ветки сплелись, их пришлось отводить руками и, продираясь вперед, защищать лицо. Над поляной в несколько шагов, что открылась за елками, стоял тяжелый запах, место определенно было кем-то обжито, у старого корневища вились мухи. Почва вокруг была примята, местами взрыта; и у выворота, и близко от места, где трелевщик вышел на поляну, белели крупные обглоданные кости. Потянуло к подкорневой яме. Он подошел к ней и наклонился, потом присел на корточки, - на дне норы, сжавшись в комок, лежал темно-серый звереныш. Последыш Чистой задергался, заголосил, оказавшись в пропахших автолом руках, - что-то еще, не такое острое, но более страшное исходило от жестких рук того, кто поднял его, помял и притиснул к фуфайке, прикидывая - не понести ли находку в деревню. Волчонок был невелик, но был перепуган - взвизгивал, царапался, даже норовил ухватить зубами. Тракторист опустил его на землю и прижал рукой дрожащую спину, щенок скребся к норе. Когда ослабли пальцы на лопатках, он выскользнул из-под них и скатился в яму и в глубине ее съежился и притих. Человек выпрямился и только сейчас огляделся... На макушке высокой ели, подрагивая хвостом, трещала сорока. Она слетела с дерева и подала голос с другого места, за зеленой стеной. Тракторист вытянул шею... Сорочий стрекот отдалился, в гулкой тишине ухо улавливало гудение роящихся в углах поляны мух, сторонние голоса поющих птиц. Что-то еще слышалось в ровном шуме этого места, скрытого от чужих глаз густой еловой оградой. Человек обернулся от вдруг пришедшего ощущения, что за ним следят чьи-то глаза, что недалеко, может за ближайшим же сплетением веток, кто-то притаился и ждет его неверного шага... Он обвел взглядом верхушки деревьев, чтобы запомнить что-нибудь приметное, что можно увидеть и издалека, затем на полшаге, почти на месте, повернулся вокруг, оглядывая края полянки. Не поворачивая головы к норе, делая вид, что не торопится, шагнул в сторону солнца, к зарослям. Чистая наблюдала за ним до тех пор, пока он не вышел из леса и не направился к деревне, после чего быстрой рысью заспешила к гнезду. Волчата уже все кучкой лежали в норе. Услышав мать, зашевелились, самые резвые стали просить уже опавшие под их крепнущими зубами соски. Но волчице было не до них. Сердито фыркнув, она низко опустила голову и остановила взгляд на последыше. Тот один, хотя и поднялся на ноги, как и все, продолжал стоять на том же месте, где только что лежал, согреваемый другими. Он, кажется, еще не отошел от того странного и страшного, что приключилось с ним сегодня. Словно макая в пустоту, плюгавый, выгнув шею, опускал и опускал к земле нос. У него напрягся загривок, дрожали лапы, - он чуял не ушедший еще из норы зловещий чужой запах. Еще острее чувствовала его Чистая. Она видела все, что происходило на логове, когда появился человек; она следила за ним, надеясь, что он обойдет нору, и, когда этого не произошло, упредила его выход к щенкам, подав знак затаиться. Все они с глаз пропали тут же, только темный, это жалкое отродье, опять не как все, ужался в землю там же, где услышал предостерегающий сигнал. Это его и погубило - человек вытащил его из норы... Вытащил... Но - оставил... Передал ему свой запах и оставил... Это было непонятно. Чистая прянула от вновь подступивших к ней волчат, зорко окинула взглядом окруженье гнезда. Потянув воздух, переступила лапами и тут же ткнула носом под теплое брюшко ближнего щенка. Слегка поддев, ухватила затем пастью за холку и понесла к нижнему, на закат солнца, лазу. Задние лапы волчонка цепляли траву, он был уже не легок. На изгибе тропы Чистая опустила его, лизнула мокрую спинку, кашлянула и тут же прислушалась: с той стороны, куда уходил ручей, из-за реки, донесся далекий шум трактора. Ветер дул оттуда. Так она перенесла пятерых. Оглядела их, смирно ждавших решения, и побежала за оставшимся. Дальше они пойдут сами, она уведет их на сухой островок в болотном урочище, куда едва ли ступит в эту пору нога человека. Черный не появлялся уже две ночи, и злость и тревога за него слились в одно горькое предчувствие. Словно сгинули и переярки, догонявшие ростом родителей и все чаще выбиравшие места для дневок вдали от семьи. Черному она с урочища подаст голос - он уже вызрел в горле, уже просится на волю, как сила сжатых в ожидании мышц. На утренней заре она уже готова была сделать это: сидела, глядя на небо и волнуясь, дышала, сузив горло, и сама уже ощущала в нем рожденье первых нервных звуков. ...Чистая вздрогнула; поводя ухом, принюхалась. Ах, она же пошла в этот раз по пути человека, где он руками расчищал себе дорогу в низких елях. Издали, злобясь, кликнула последыша, не видя его, но догадываясь, что тот снова скрылся в норе. Он вылез, но опять не как другие со свободным хвостом, языком наружу, а несмело, припадая к земле мордой, как не прозревший. Волчица схватила его зубами и встряхнула, щенок пропищал и тут же снова оказался на своих лапах, — отвратный дух, оставленный мазутными руками человека, заставил Чистую разжать челюсти. Она, наверно, сильно прикусила холку, - тихо голося, щенок поежился, попятился от матери. Она сама отскочила от него и тонко, не по-своему, проскулив, обернулась в ту сторону, где в лесу ждал оставленный выводок. Потом быстро обошла последыша и, остановившись, слабо рыкнула и толкнула его носом. Потом постояла, еще раз понюхала полосатую спинку, лизнула около уха, где до этого прижала зубами, отвернулась и трусцой, набирая ход, одна побежала к повороту тропы. Волчата повизгивали, требуя еды. Но молока не было, нечего было и отрыгнуть из пустого желудка. Чистая, прислушиваясь к звукам нового места, отлеживалась, - перенос щенков на сухой участок в глубине урочища стоил ей немалых сил. Она ждала вечернюю зарю, чтобы оповестить Черного и старших сыновей об уходе со старого логова. Оповестить и позвать на помощь. Выводку одинаково обеспечивали жизнь и пища, и вода, она перевела его к воде, скоро пойдет и на охоту. Ослабнув на какой-то миг, она вскинула голову и выдавила из горла короткий нервный стон; волчата, притихнув, тут же вразнобой заголосили опять. Они были голодны, но всему была мера, и Чистая вскочила и, хрипло дыша, оголила клыки. В очистившейся тишине слышался только неустанно повторявшийся крик какой-то болотной птицы. Черный знал это место и мог сам разыскать их. В свое время они приметили этот островок среди топи, как подходящий для щенения, но потом оставили как запасной. Люди, обходившие ягодные места вокруг, двигаться глубже не отваживались. Волчица вышла из-за кустов, на границе твердого, сухого выступа остановилась. Зеленый кочкарник тянулся ровным полем до самых берез, за белой рощей начинался хвойный лес с еловым подростом на мшистых полянах. Где-то там, в тени широколапых елей, у завалов сушняка на старых просеках, на мягких лесных дорогах, скрадывающих шаги, ищет добычу Черный. Он не очень хитер и терпелив, но силен и вынослив, это Чистая знала еще с долгих скитаний в начале поры, когда они обживали логово и метили границы семьи. Земли им хватало, как и корма, - судьба связала их с лесом, не бедным и малой, и крупной живностью. К нему близко лежали деревни. Чистая подняла морду. Глаза закрыла, ничего на слышала. Издалека, из минувшего, в уши вошел слабый дрожащий звук. Тягучий, не прекращающийся, он густел и креп и скоро зазвучал, как ветер осенью в высоких соснах. К низкому тону спокойно и верно добавился другой, нескольких голосов, чище и выше, потом еще один - и мягче, и сильнее свившихся с первым, коренным. Звучание голосов - широкое, литое - усиливала кровь, стучавшая в висках. Чистая вздрогнула - ее одинокий голос истаял над болотным мшаником. В памяти растаял и единый вой семьи. Дальше ждать она уже не могла. Вернувшись к щенкам, пофыркала для острастки, давая понять, что уходит за добычей, и покинула гнездовье. Направиться решила к дальней пади, где одной охотиться легче. Ноги несли ее быстро, но к узкому оврагу почти на краю семейных владений она свернула не сразу: миновав скрещение дорог, вышла на тропу к старому логову, где оставила последыша. Бежала к нему все быстрей, будто боясь опоздать; легко нырнула под вислые лапы еловых веток, уже оттуда уловив свежий запах человека. Сухой, четкий, как выстрел, захлоп капкана она отметила раньше, чем ощутила жар в правой лапе. Отчаянно рванулась, ломая ветки, вбок, вцепилась стертыми зубами в кованые дуги ловушки. Рывок был так силен, что волок, обрубок дерева на цепи, выхлестнулся из-под елки и дернул защемленную лапу в другую сторону. В горячке Чистая сделала несколько прыжков, пока волок не застрял в можжевельнике; освободив его зубами, она снова вгрызлась в железо. Когда чурбак заклинило в сухом завале, она долгими потягами расшатала штырь и уже в темноте выдернула цепь из потаска. К березовой опушке доползла на переломе ночи и долго лежала в низких зарослях у болотной межи, беспрерывно облизывая онемевшую лапу. Не подняли ее и первые проснувшиеся птицы; она даже не встрепенулась, когда вдруг упала странная завеса слуха и в уши хлынул их общий утренний гимн. Лишь дрогнуло что-то в далеком уголке души, да вызвал беззвучный стон стрекот заметившей ее сороки. Но в шуме леса вдруг выделился звук, заставивший поднять тяжелую голову и насторожиться... Лай собаки принесло ветровой волной, и когда она отшумела в купах берез и совсем потерялась в ольшанике, пропал и собачий голос. Однако скоро притек снова, у |
|
- Анютка-а! – донесся из горницы бабушкин голос.
- Чего? - Глянь, сколь время-то уже! Поесть не успеешь, ребяты уйдут. Будешь потом догонять... - Успею. Анютка сполоснула руки - смывала грязь с башмаков, - подошла к столу. - Ешь давай, - поставила бабушка перед ней миску с картошкой. Близко стояла другая, с кислой капустой, в кринке - простокваша. - Снулая какая севодни. Анютка промолчала. За три года, что жила у деда с бабкой, научилась терпеть, не перечить без толку. Не как раньше, когда совсем маленькой приезжала сюда на короткое лето. - А дедушка? - спросила с полным ртом. - На конюшне. Манефа жеребится, пришли за ним. Анютка хорошо знала Манефу - хромую лошадь с пятном на лбу. Бурая, ровная в окрасе, Манефа носит это белое пятно как звезду на фуражке. - Доноси-ила все же, - вздыхает бабушка. - Бог даст, все обойдется. Анютка кивнула. Она тоже подумала, что все обойдется, и Манефа принесет еще одного жеребенка, последнего в своей жизни, как говорил дедушка. Он говорил, что их латышка, то есть Манефа, и так запоздала с этой своей охотой. Однако веселым был, когда уводил ее на случку в другую деревню. - Собирайся живей, ничего тебе не осталось, - подняла бабушка глаза к ходикам на стене. А в конюшне с ночи суматоха. Манефа перестала есть, забеспокоилась. Ходит по деннику, ложилась несколько раз. Молоко уже не держит. Когда подошел старый конюх, она уже улеглась насовсем, уже ждала своего часа. Но легла неловко, крупом в стенку, и Лукич показал помощнице: надо двигать. Опорная нога была с порезом - из-за нее и забраковали ло-шадь на отборе, - Манефа никак не хотела вставать. И так, и эдак крутились - заставили подняться и опять лечь, - уже на чистую подстилку со свободным местом назади. С самого утра и в доме какая-то суета. Проснувшись, Анютка увидала в хате соседок. Говор, охи, ахи. То выйдет какая, то опять зайдет. - Назаровна, неужели? - допытывается Глаголиха, мать одноклассницы Анюткиной, Зинки. - Неужели правда? - Сама же говоришь, - отзывается бабушка. - Дак и мне сказали, - торопится подтвердить что-то Глаголиха. - Ночью, говорят, по радио объявили. - Дай Бог, дай Бог!.. - повторяет бабушка. Тут Анютка и зашевелилась, слезла с полатей. - Ой!.. Дитятко! - Зинкина мать обхватила ее, теплую, еще вялую со сна, прижала голову к фуфайке. - Одни осталися-а!.. - Война кончилась, внученька, - переняла Анютку из ее рук бабушка. - Кончилась, Господи!.. Бабушка тоже притиснула к себе, припала губами к макушке. Однако не стала причитать, как Глаголиха, как сама полгода назад, когда получила похоронку на сына Колю. И Анютка поняла, что бабушке стоит немалых сил - не застонать, не упасть головой на стол, как это было осенью, когда они с Зинкой пришли из школы и узнали о похоронке. На второй день Зинка провела ее за руку до самой парты: «И у нее папку на фронте убило», - сказала. А Анютка кивала, пришла ее пора принимать жалость. Бабы, и радуясь, и плача, разошлись на дойку. Потом одна за другой стали подходить с молоком, снимать с подойников стираные тряпки. - Радость-то какая, Назаровна, - слышалось из сеней, где бабушка принимала молоко. - Ребяты в Мохово бегали, там тоже все гомоном. Было слышно, как позвякивают ведра, скрипят доски моста под ногами. Анютка знает, что там делается. Слева от лестницы на сеновал стоит стол с пробирками. Бабушка наливает в них молоко от каждой коровы, потому что у них разная жирность, и каждой хозяйке записывает в книжку, сколько та сдала. От шипения молока, когда его сливали в бидоны, от железного стука бидонов Анютка и просыпалась по утрам. Но этот день начался не так... - Ну где ж бабы-то? - не раз слышалось из сеней. - Чо они, в самом деле? - А и доить забыли. И правда, не все в это утро подоили коров, сбиваясь в кучки у крылец да в хатах. А на конюшне возле потной Манефы такой же потный Лукич. Трогает, щупает вздутое брюхо, говорит ласковые слова. Лошадь косит на его налитым глазом, кряхтит с натуги. - Манефа, Манефа, - одно и повторяет конюх, свой, самый близкий ей. Теперь-то они оба хромые, а было время... Было время, на кобылу-латышку смотреть приезжали, удивлялись стати. От нее одной колхоз и продал двух жеребят на племя. Когда Манефа повредила на косьбе ногу, Лукич волосы на себе рвал. Но, как говорится, нет худа без добра: военные спецы в первую выбраковку лошадей только языками цокали, оглядывая хромую красавицу. Хромота-то была невелика, но никак не излечима, и лошадь оставили в деревне. Не взяли ее и на войну, когда конюшни вычищали чуть не под ноль и отбраковывали, считай, самое старье и убогость. Опять глядели на Манефу, жалели, что припадает на ногу, а взять не взяли. Ну и Лукич, конечно, свою роль выполнил, - сам полступни потерял, соскользнул под трамвай в городе, знал, что это такое иметь порченую ногу. «Обое мы с белым билетом», - говорит. Он и содержал Манефу не как других, жалел. На вспашку ее не брали; а по ровному полю - на прикатке в посев, на косьбе - тут она справлялась. Молоко возила, воду с пруда. Уже с нездоровой ногой принесла жеребенка, и вот еще захотела, - напоследок, как сказал Лукич, увидав ее поведение. Был у нее и грех большой; и все, может быть, из-за ее негожей ноги. Уехала на ней за почтой тогдашняя возница ее Егориха. Баба горячая, нервная, Егориха, как говорила, чуть не каждый день видела худые сны. «Что-нибудь с Павлом сталось», - догадывалась про мужа на фронте. Всю жизнь ревновала его к молодухам, на войну провожала об этом же беспокоилась. А детей у них не завелось. И в тот раз поехала раньше срока, упросила председателя, да и все в деревне рады были лишнему случаю получить письмо или что. Собрала угольники по дворам, у кого были на отсыл, отправилась. Прошло время, народ ждет. Дела конечно, никто не бросает, все заняты. А вот и колеса услыхали. Подъезжает телега, а в ней Егори-ха уже, считай, холодная. Ей Манефа копытом угодила, в самый висок. Это уже с участковым разобрались, когда дорогу проследили, откуда лошадь сама пришла. Как все вышло, Бог знает, не до следствий было, да и у кого спрашивать, кого привлекать. Может, по нужде решила Егориха остановиться, может, вожжу выправляла да за ногу хромую туго взялась, - кто знает. Но, видать, сумела в горячке сделать шаг да в телегу повалиться. Встала Манефа у конторы, чует неладное дело - дорогой никто не понукал, - фыркает. А что с нее возьмешь? Хорошо хоть сирот Егоровых не осталось. Пашке тоже не сладко пришлось, калекой домой вернулся. А на конюшне все больше волненья. - Видать, нога подогнулась, - сказал Лукич о жеребенке. Никогда у Манефы ничего такого не было, выжеребки проходили грех жаловаться, всякий раз в полчаса укладывались. А с последним, вишь, расставаться не хочет. - Манефа, - опять провел рукой по мокрому боку ее Лукич. - Ну давай, трудись, мать, трудись! - И тоже губами двинул, как и Манефа своими - пухлыми, тревожными. Тут ворота скрипнули, председатель появился. Всегда молчком подходил, а тут на ходу еще пошел говорить. Просто новое для него, так и есть - выпивши. - Дожили, Лукич! Победа...- поднял оба рукава вверх, один с рукой, другой пустой наполовину. - Дожили, етишкину мать!... Степан Захарыч отвел культю и вытащил из под нее, с-под фуфайки, бутылку с самогонкой. Но, оказавшись ближе, увидал все, что есть, и остановился. - Видишь - что? - не подымаясь с колен, убирая локтем пот со лба, выдохнул Лукич. - Бастуит... - Манефа! - скосоротился, будто только что и уразумел, что перед ним деется, председатель. Но грудь не могла удержать того, что в ней было, и он опять воздел кверху порожний рукав-. - Наша взяла, Лукич... Побе-еда!.. Он видел, что пособить тут ничем не может, и ушел. Двинулся к конторе, к штабу своей бабьей роты, как называл всю наличную силу деревни. Он им скажет, что не зря они мыкались все эти годы, жали не лобогрейками, а серпами, сохраняя зерно, слали на фронт, что могли. Не зря оплакивали мужиков, а то и сынов своих... Больше слезов не будет... До школы было три версты. Дорога уже подсыхала, грязь не липла лаптями на ногах, и шагалось легко. Да и что-то в сердце - теплое, светлое, - как волшебная сила, поднимало и несло вперед. Так бывало, когда все уроки были хорошо сделаны и не надо было ни чуточки бояться, что Мария Ника-норовна вызовет к доске. Анютка, как лучшая ученица, сидела на первой парте и имела на ней со своего края красный флажок. Она и еще трое ребят из деревни, - всем передалась эта лихорадка старших, - шли и рассказывали, каким выдалось нынешнее утро, как матери позабыли про их уроки и даже про печи, которые запалили не вовремя. Потом стали говорить про близкие каникулы, про то, как скоро станут бегать на речку и на плотину. Как ни весело было в школе, а вольное лето, уже совсем недалекое, кажется, уже шло навстречу, вытянув вперед на глазах теплевшие руки. Оттого и распирало все внутри и хотелось встать повыше. - А мне папка из Германии охотничий ножик привезет и аккордеон. В письме написал... - Аккордеон? - Ага. И еще патефон с пластинками. Чуть не сто пластинок привезет. И новый патефон. У одного Семки Горелова оставался еще жив-здоров отец; он да Степан Захарыч, двое в деревне, играли на гармошке. А мой папка...- хотела что-то сказать Анютка, но остальные глянули на нее - совсем по-другому, чем на Семку, - и она остановилась. Потом на Зинку Глаголеву коротко поглядели, у нее тоже отца на фронте убило. А за горкой и Мохово открылось, и школа с расшитыми во всю стену окнами. И дым над ее обеими трубами свежий, - тоже, видно, с задержкой затопили. Голоса оттуда издалека слышны, они и шагу заставили прибавить. - Эй, эй! - встретили их на школьном дворе, как будто они ничего не знали. - Война кончилась, уроков не будет! Ребята бегали вокруг свежевскопанной клумбы, носились друг за другом, девчонки смеялись и визжали. Из школьных дверей вышла уборщица тетя Клава; вытирая глаза, пошла к сараю. - Тетя Клава, правда, уроков не будет? Та замотала без слов головой, махнула рукой в сторону ворот. - Ура-а! - уже в который раз заорали все как один. - Ура-а! Их даже по классам не развели. Учителя, нераздетые, с порога собрались в холодном еще директорском закутке. В сообщение по радио верили, а радоваться боялись. Вспоминали тех, кого учили в своей четырехлетке до войны и кто, как стало уже известно, погиб за эти годы. Плакали о павших близких. И никого не проведаешь, - ни одного на своих погостах не похоронено. Потом директор вышел на крыльцо и стал ждать тишины. Дождался, сошел со ступенек к передним, кто подошел почти вплотную. Набежал глазами на покрасневшую от игры Анютку, положил ей руку на льняную голову. Анютка запылала еще горячей. Показалось, что директор нетрезвый. - Сегодня... ребята... не будем учиться, - сказал он, задерживая слова. - Сегодня праздник... Все уже знали это, а все равно, как на новое, откликнулись одним духом? -Ура-а!.. И директор - поднял кулак над головой и тоже округлил рот: -Ура-а!.. Непонятно было только, почему у него, как и у тети Клавы, были мокрые глаза, раз праздник. Назад шли - несли по очереди знамя: флажок с Анюткиной парты. Мария Никаноровна разрешила. Надвязали к нему длинную палку - издалека виден. Шли и пели песни - «По долинам и по взгорьям» и «Вставай, страна огромная». Где не помнили слова, повторяли пропетые - все подходило и получалось, даже громче. - Бабуля! - из сеней крикнула Анютка, зацепившись флажком за дверной косяк. - Нас отпустили. В хате сидел дедушка. - Ты пьяный? - быстро оглядела стол Анютка? Лукич протянул к ней руки - обнять и приголубить последний светлый лучик. Анютка увернулась, бросила на ходу: - А бабушка где? От деда сильно пахло конюшней. - А как Манефа? - остановилась перед ним Анютка. Лукич поднял большой палец. - Ожеребилась? Дедушка! Дедова голова мотнулась вниз, он кивнул. ...Манефа справилась. Она лишь шумно кряхтела и отдувалась, пока он выправлял жеребенку скосившуюся ножку. А когда, сам измученный и мокрый, Лукич принял вышедший плод и перевязал пуповину, благодарно ткнула его мокрым носом. Острыми глазами глядела, как он очистил жеребенку рот, нос и уши, а потом, шатаясь, встал: давай, делай свое дело. Манефа даже щурила глаза, жарко вылизывая легкое тельце дочери. А та подрожала, подрожала и поднялась на ноги, и все увидали на лбу ее такую же, как у матери, звезду. Так, с огоньком на голове, и ткнулась матери в вымя. Через две недели подошли каникулы. Опять ребята из деревни шли из школы - пели песни. Дорогой рвали цветы, кидались сумками, обзывали необидно друг дружку. Как и сговаривались, сразу не пошли по домам, а с выгона повернули к конюшне. И возле нее увидали Манефу с жеребенком. Он стоял в стороне, и Манефа, увидав голосистую команду, коротко заржала. Жеребенок стрельнул под ее защиту. - Победа, Победа! - закричала Анютка, а за ней и другие. Манефа тряхнула головой. - Победа! - услыхала опять. Так назвали ее дочку. |
 --- Автобиография Баюрова Александра Александровича  Самое раннее, что помню, - идем мы с мамой по полотну железной дороги из кондукторского резерва, где она работала проводником... Шпалы друг от друга на расстоянии маминого шага, а мне - или скакать с одной на другую, или после каждой оступаться в гравий... Это трудно, - я часто спотыкаюсь и умоляю маму взять меня на руки. Она останавливается, вытирает глаза и повторяет: "Ну, сыночек, иди сам, иди... Ты же видишь, у меня сумка тяжелая..." А я хнычу, бегу ей, пошедшей дальше, вслед и опять спотыкаюсь... Сколько же мне было лет? Три? Четыре?.. Мы жили на окраине города в бывшем Свято-Введенском монастыре (сейчас он возрождается) - с крупным храмом и часовнями по углам обнесенной высокой кирпичной стеной территории, густо застроенной деревянными домами - в них были кельи монахинь. Хорошо помню в доме (в нашей половине, во второй жила другая семья) сухой чистый погреб с лазом из кухни, средних размеров русскую печь и хрусткую гречишную засыпку потолка на чердаке. Среди обитателей Рабочего Городка (так был назван монастырь при Советах) ходила байка о кладах, спрятанных монахинями либо в погребах, либо на чердаках, и не в одной прежней келье они были тщательно обследованы каждым новым поколением... Помню себя семилетним. В доме необычное волнение: убирают большую комнату, моют полы. В отгородке - спальне родителей - к потолку подвешивают люльку... Потом привозят бледную маму из роддома с моим братом Владимиром. Это 1939 год, август. А совсем незабываемое - с войны, вернее - с оккупации. Помнится очень многое и четко, не искажаясь временем... Многое из того, что пережил в 10-12 лет, станет позже материалом для моих повестей. Героев моих книг я увидел среди тех, кто жил рядом - и это были женщины: мужики воевали за них на фронте, часть отступила с нашими. Да, в войну Рабочий Городок почти весь выгорел - наши самолеты бомбили зарывшиеся здесь моторами в землю немецкие машины и танки, копившие силы перед смертельной для многих из них Прохоровской битвой на Орловско-Курской дуге летом 1943 года. В нашем доме жили трое немцев: один со светлым кубиком на погонах с окантовкой, второй - с окантовкой, но без кубика и - денщик первого, солдат. Он носил с кухни обеды в котелках, даже пек в нашей печи пироги, по "их" праздникам. Нас, ютившихся в "темной", без окна, комнате и кухне вроде никак не притесняли, - как бы не замечали. Тут я их видел близко. Каждое утро - чистка сапог, зубов, негромкая речь. Со временем я кое-что стал в ней понимать... Многие события далеких лет оккупации память хранит очень верно, как недавнее, чуть ли не вчерашнее. Каких же усилий потребовала жизнь от моей матери, сберегшей в войну всех нас - пятерых своих детей (младшей сестре к началу войны было полгода)... Все более или менее ценные вещи были обменены в деревнях на картошку, зерно (мололи сами на соседской мельнице-самоделке): швейная машинка, стандартные настенные часы, белье, подушки, венчальная икона мамы, посуда... Что еще могло быть "ценным"? Помню деревню, куда ходили с мамой "менять", Путимец, - кажется, от Орла в 25 километрах. По голым снежным полям, днем (ночью выходить из домов запрещено), растирая в мороз худые коленки... Но война кончилась. В начале августа 43-го наши войска освободили Орел. При появлении "своих" народ смутился: погоны на плечах?! Может это союзники... Как их там называют? В листовках, которые летели с наших самолетов по ночам, обещали их помощь... В комнате моей висят фотографии. На одной из них мы, дети, окружили маму, - она спокойна, счастлива: сохранила, дождалась... Рядом фотографии: деда, маминого отца, - ему 85 лет, он действительно "землю пахал" в деревне под Мценском Орловской губернии; и мама с отцом в первый год замужества. Старость и молодость. Не оторвать взгляда от них - нет в наших глазах того покоя и веры, что светятся в них, нет... Смотрю с большого расстояния жизни - вроде бы теперь вот могу рассказать о них, об их времени, а может быть и о душе. Так должна, по-моему, говорить о жизни и литература: горячее, животрепещущее - не ее поле. Большое видится на расстоянии... А когда же я "стал заниматься" ею? Классе в 5-ом неожиданно сложил в уме стихотворение, строчек восемь. Потом записал его на листке и удивился и заволновался: я написал стихотворение! Вот они - строчки, ритм, рифмы. И это - о том, что говорят простой речью. Потом стал писать в подражание Маяковскому - о себе, однокласснице, в которую был влюблен...  Серьезное отношение к сочинительству пришло в Мореходном училище (в Ломоносове, под Ленинградом), куда я поступил по окончании Рижской школы юнг и годичного плавания на морском буксире. В училище литературу преподавал будущий доктор филологии, профессор Евгений Александрович Маймин; там же он собрал нас, нескольких курсантов в литературный кружок, из которого позже вышли в профессиональные литераторы Н.В. Беседин (поэт), Б.С. Романов (поэт и прозаик, в трудные годы начала "перестройки" возглавлявший Союз писателей России), ну и я... Получив по окончании училища назначение в Мурманск (1955 год), я наведался там в молодежную газету, которая напечатала мой первый рассказ - о моряках, об их нелегкой доле. Но писал я в то время, в основном, стихи. Тут дело дошло до того, что всесоюзно известный в то время диктор радио и телевидения Сергей Тулупников устроил мне на радио целую передачу - я и какие-то артисты читали стихи. Я писал их легко и безответственно, даже не думая о том, чем же они могут отличаться от стихов других людей, чем они, в конце концов, интересны. Сочинялось легко - это меня и подталкивало к их сочинению. К сочинению - как к обдумыванию, а не к особому чувству, что ли, когда слово несет в себе невидимую энергию души. На некоторые свои вещи той поры мне грустно и смотреть. Однако же ни в чем написанном какого-то обмана не было, все шло, по-моему, от души. Я и ночь глухая, шорохи и звуки... Вспоминаю детство - давнее былье: Теребит калитку ветер тугорукий, Треплет на веревке мокрое белье... Конечно, в ранней юности мы всегда уже "мудры"... Но тут произошло что-то непонятное. Оказалось, что меня больше тянет к прозе, - думалось, что в ней я могу лучше рассказать о жизни то, что хочу рассказать. Впрочем, об этом я, кажется, особенно не задумывался, это получилось как-то само собой. Я стал писать повесть... С нею приехал в город Псков по приглашению своего учителя Е.А. Маймина. Куда в первую очередь идти? Конечно, в редакцию главной газеты области - "Псковской правды". Была и молодежная в городе - "Молодой ленинец", в дверь которой я постучусь позже. А в "Псковской правде" - редактор Иван Виноградов (тезка известного ленинградского писателя Ивана Виноградова; но тот калибром крупнее, и с ним я тоже познакомлюсь со временем).  - Повесть Вам принес, - говорю редактору псковской областной. (Спрашивается, зачем принес, куда, - не будут же в газете печатать повесть в 120 страниц, причем "морскую"? Но я этого еще не понимал.) - Повесть? - Да. - А кто Вы такой? - Приехал. Из Мурманска. Здесь жить буду. - Ну, давайте... Иван Васильевич открывает редакторский сейф, и мои 120 страниц изчезают в его темноте. "Здорово, - думаю. - В самый сейф..." Через месяц (приходил я и раньше: что, за неделю не прочитать?!) оттуда же, из сейфа, Виноградов достал рукопись... Я думаю, он ее и не читал, иначе сказал бы хоть что-нибудь. Надо было познакомиться и с молодежной газетой, - она была популярна, в ней работали получившие позже широкую известность журналисты Владислав Алешин, Николай Артюнин, наш ныне известный всей России критик Валентин Курбатов... В "Молодом ленинце" меня приняли по-братски и сразу же "записали в свои", напечатали первые мои рассказы... Прекрасное было время, что бы ни говорили о нем осатаневшие противники Советской власти. Область развивалась по всем направлениям: промышленности, сельскому хозяйству, культуре... Во главе ее стоял удивительный, талантливейший руководитель - первый секретарь обкома Иван Степанович Густов. Несколько лет я проработал учителем литературы, но накануне назначения директором одной из новых школ по предложению И.С.Густова перешел в Псковское отделение издательства "Лениздат" - редактором. Тут, надо сказать, все сделал для этого заведующий отделением издательства, псковский поэт и прозаик Лев Маляков, "заметивший" меня по публикациям в молодежной газете. Большую роль в моей литературной судьбе сыграл следующий факт. Очень известный уже в то время, приехавший из Костромы в Псков писатель Юрий Куранов посоветовал мне послать мою первую повесть "Сто тринадцатый" (во многом автобиографическую) в журнал "Москва", что я и сделал. Это было в начале 1971 года. Месяца через два получаю телеграмму из... популярнейшей тогда "Юности": "Ждем первый экземпляр рукописи. Будем печатать. Борис Полевой". Но я же послал повесть (третий, почти "слепой", экземпляр, - два первых находились в работе в издательстве Лениздат, где уже готовили мою первую книжку) в "Москву", а не в "Юность"... Смотрю на число отправления телеграммы: 1 апреля... Ах, 1 апреля! Кто ж это мог так безбожно пошутить? Друзья, конечно, но - кто? Однако вслед за телеграммой получаю письмо от заведующей отделом прозы "Юности" Мери Лазаревны Озеровой, а в нем такие строчки: "Да, повесть Вашу мне передала из "Москвы" Диана Варткесовна Тевекелян...". Выходит, кроме Куранова, и они - мои крестные... В первом номере (1972-го) "Юности" повесть была напечатана и неожиданно вызвала странный резонанс. В "Псковской правде" появилась разгромная статья о ней - "113-й на мели" (автор Александр Морозов, сотрудник газеты). Видимо, "в ответ" в "Юности" появилась статья В.Воронова "Таланту нужно сочувствие"; в "Советской культуре" - "Система оценок по Вл.Воронову"; в Пскове, в "Молодом ленинце", была напечатана статья Юрия Куранова "На светлой дороге", в журнале "Москва" - И.Мотяшова "Серьезные люди. Заметки о творчестве молодых прозаиков"; а чуть позже - в альманахе "Родники" (М., "Молодая гвардия") статья В.Курбатова "На этом трудном пороге"... Да, непросто "входить" в серьезную литературу, - так, очевидно, надо было подумать в ту пору. Вообще, надо признаться, я благодарен критике. Благодарен не потому, что все мои более или менее крупные работы (роман, повести и даже рассказы) были встречены ею (И.Мотяшов, А.Адашевский, А.Лебедев, А.Турков, И.Стрелкова, Ш.Галимов, Е.Маймин, Н.Вершинина, Е.Сергеев, И.Симонова, С.Золотцев, С.Десятсков, О.Калкан и др.) серьезно и доброжелательно, а часто и одобрительно. Нет, критика "разглядела" меня, увидела, что на самом деле я собой представляю как литератор. Буквально в те же дни, что и "Юность" с моей повестью, в Ленинграде, в Лениздате, вышла моя первая книжка "Если звезды зажигают". Редактор ее Игорь Трофимкин, познакомившись с рукописью (повесть и несколько рассказов), неожиданно изрек: "У тебя есть еще какая-нибудь повесть? Рассказы ты везде напечатаешь, а вот тут бы вторую повесть, и будет нормальная книга". Я смотрел удивленно: что это - блины, что ли, - раз, и повесть? Но, вернувшись домой, взял да и написал повесть "Товарищи курсанты" - дорогую мне до сих пор. Так появилась она на свет, моя первая книжка...  Древний Псков подарил мне истинных друзей - на всю жизнь: литературоведа Евгения Александровича Маймина, писателей Юрия Куранова и Валентина Курбатова, "милиционера" Анатолия Алексеева (сейчас он генерал-лейтенант...). Вспоминаю, как в самом начале моей работы редактором в Псковском отделении Лениздата меня пригласил к себе главный редактор издательства Дмитрий Терентьевич Хренков. - А сами Вы пишете? - спросил он, едва я появился в его кабинете. - Понемногу пишу... - поспешил я обрадовать его. - Хм... Да... - не очень весело, неожиданно для меня отозвался Хренков. "Конечно, издательству выгоднее иметь в штате чистого редактора, - успокоил меня Лев Маляков, - в этом случае над ним не довлеет его собственный стиль..." Вторую книгу мою редактировал в Лениздате Борис Друян. Одна из повестей ее - "Билет в прицепной вагон" - уже была напечатана в журнале "Наш современник" (там, по предложению редактора Сергея Викулова, ее назвали "Свои дети"). Областную писательскую организацию в Пскове в то время составляли, в основном, "варяги" - приглашенные из других городов Юрий Куранов (из Костромы), Игорь Григорьев (из Ленинграда, сам - коренной, деревенский пскович), Лев Колесников (из Вильнюса), Евгений Нечаев (пскович недавний), Иван Виноградов (коренной, тоже из деревни), Лев Маляков (тоже из псковской деревни). В общем, люди основательные, от земли. Пришло время и мне вступать в Союз писателей. Побуждал меня к этому Юрий Куранов - нелегкий, в некоторых случаях, в общении человек, но человек прямой, бескомпромиссный и, конечно же. По-настоящему талантливый. Это и видели, и чувствовали все. Даровитым поэтом считал прежде всего Григорьева, из-за которого и вынужден был уехать из Пскова в Светлогорск под Калининградом, в чужую землю. Светлая ему память... Вспоминаю людей, давших мне рекомендации в Союз писателей СССР: Георгия Семенова, Константина Воробьева, Михаила Колесникова - все москвичи, все прекрасные писатели. Георгий Семонов и Константин Воробьев бывали в Пскове. Воробьев даже мечтал переехать из Литвы в наш город. Как-то не получилось. Пытался поселиться в Пскове и Дмитрий Балашов, приехавший к нам... на конной телеге. Тоже не получилось. Вопрос, видимо, упирался в предоставление жилья. ...Недавно, в 2005 году, получил я от жены Дм. Балашова, Ольги, телеграмму с приглашением на "Чтения памяти писателя". У меня не было возможности поехать... В Пскове, между тем, я потихоньку познакомился с литературной средой. Во "второй эшелон", к которому, в общем-то, примыкал и я, входили интересные, со своим голосом, своим стилем, поэты Евгений Борисов, Александр Гусев, переселившийся из Баку (женился на псковичке) Владимир Половников, татарин Энвер Жемлиханов, Олег Тиммерман, прозаик Николай Новиков. В издательстве Лениздат проработал я восемь лет (с 1969 по 1977); там вышли первые крупные книги о Псковской земле: "Непокоренная земля Псковская", "Псковский край в истории СССР" и др. Это была, в основном, литература краеведческая (как и мой собственный "Псков. Путеводитель" - тоже первая большая современная книга о древнем городе России). Заставил меня написать ее все тот же И.С.Густов, на сомнение мое "В Пскове же есть местные, свои краеведы, а я ведь приезжий" ответивший короткой репликой-приказом: "Свежий глаз острее видит..." 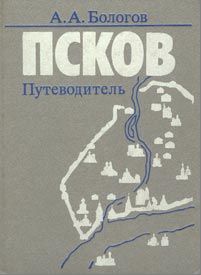 В 1978 году получил я из Свердловска, тоже неожиданную, интересную телеграмму под Новый год, 31 декабря. В телеграмме Свердловской киностудии просили срочно, в тот же день (доверстывался годовой план) сообщить о согласии экранизировать мою повесть "Вещь чистого золота". Ни о чем не думая, довольный, посылаю телеграмму всего с одним словом: "Согласен". Прошло какое-то время - еще один сюрприз: просьба телестудии Свердловска разрешить ей поставить спектакль по повести "Свои дети"... Позже режиссер фильма "Вещь чистого золота" привез ленту в Псков. Дважды - в конторе Кинопроката и в кинотеатре "Космос" - вместе с друзьями я посмотрел это кино... В те же дни мой старший друг, прекрасный человек и писатель Юрий Васильевич Бондарев сказал мне: "Сценарии надо писать самому. Я к своим фильмам сам писал их..." К такому разговору были основания... Вроде бы и не посоветовал никому совмещать работу над книгами с работой чиновничьей - того же председателя писательской организации, местной ли, республиканской, всесоюзной... Но как от этого уйти? Нанимать непишущих чиновников? Тем более если "руководишь" организацией много лет, и переизбирают тебя на очередных отчетных собраниях... А если это длится 25 лет?! Это я о себе... И ведь ни одной строчки не написано на работе, - все, что сделал, сотворено в отпусках, в Домах творчества Дубулты, Пицунда, Комарово. Никогда и нигде в мире власти не заботились о писателях (а также художниках, музыкантах и др.) так, как власть Советская, и сравнивать нынешнюю массовую литературу с доперестроечной - все равно что сравнивать гнилую осину с мачтовой сосной. В 1970-1980 годы повести мои и рассказы печатают журналы "Наш современник", "Москва", "Подъем", "Нева", "Север". Книги "Последний запах сосны", "Облака тех лет", "Как далекое сердце", "Избранное в 2-х т." выходят в издательстве "Современник", издательство "Советская Россия" выпускает книгу "Один день солнца". В 1990-е годы и в Пскове набрало силы книгопечатание, - здесь вышел роман "Слепые крылья мельницы" (за нее мне присудили премию областной администрации) и книга военных повестей и рассказов "Вальс победного дня". В 1983 году за книгу повестей и рассказов "Последний запах сосны" я получил премию Союза писателей РСФСР. Работа председателем Псковской писательской организации включала в себя и подготовку и проведение наших известных всему миру Пушкинских праздников поэзии, ставших постоянными с 1967 года. На зеленой поляне Михайловского в иные годы собиралось до 100 тысяч человек... Какое же это было духовное единение! И.Андроников, П.Антокольский, В.Белов, Р.Гамзатов, Г.Горбовский, Ю.Бондарев, С.Капутикян, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Э.Межелайтис, С.Михалков, Б.Полевой, Р.Рождественский, Д.Самойлов, Я.Смеляков, И.Шафаревич и многие другие литераторы страны побывали на святой земле Пушкиногорья; Михайловская поляна слышала стихи поэтов Пакистана и Японии, Бельгии и Австралии, Румынии и Китая, Индии и Кубы, Мексики и Туниса, Алжира и Эквадора, - что говорить, со всего мира... Иван Козловский, Павел Лисициан, Александр Ведерников, Зураб Соткилава - их голоса звучали у дома поэта... Пушкинские праздники и мне, кроме забот, дали многое: я познакомился с прекрасными поэтами и писателями, с некоторыми - подружился. Работа в Союзе писателей питала и разум мой, и душу. Выездные секретариаты, пленумы, участников которых был и я как один из секретарей Правления Союза писателей РСФСР, проводились в разных регионах России (Пензе, Нальчике, Ижевске, Владивостоке, Якутске и др.). В одной из поездок, на Камчатку, довелось подержать в ладонях пепел ее вулканов и омыть их в прибое Тихого океана. Газета Петропавловска-Камчатского напечатала отрывок из моей повести. Памятной была поездка на Ставрополье, где Союз писателей проводил "Литературные дни". Там познакомился с Владимиром Бондаренко (ныне редактором газеты "День литературы", одним из лучших критиков нашего времени) и своеобразнейшим, удивительным писателем Александром Прохановым. Со временем я подружился с ними, и благодарен судьбе за это. Кроме выездных дел Правления СП России, стоит вспомнить командировки в некоторые областные организации - обычно это были те, где зрели, а то и вспыхивали конфликты. Писатели - люди честолюбивые, иногда ревнивые. Довелось мне поездить по России, подышать воздухом провинциальных отделений Союза писателей. "Виноватых" в конфликтах, как правило, не было, а обиды, ревность... Впрочем, как и положено в творческих объединениях с людьми, у которых главное - частное, личное, тайное... Долгие годы я был членом Приемной комиссии Союза писателей России (последние лет 15 - заместителем председателя ее). Интересное дело. Во-первых, люди в комиссии... Сначала - председатели, по времени: С.Михалков, Ю.Бондарев, В.Ганичев... Столпы словесной культуры. "Рядовые" члены: Юрий Кузнецов, Михаил Лобанов, Семен Шуртаков, Виктор Потанин, Дмитрий Жуков (отец нынешнего вице-премьера)... В последние 10-15 лет, кажется вся молодая литература прошла перед моими глазами на Приемной комиссии. В том числе и псковская, "просеянная" на наших общих собраниях в Пскове (Владимир Клевцов, Олег Калкин, Игорь Смолькин, Андрей Канавщиков, Татьяна Гореликова, Людмила Скатова, Вита Пшеничная, Вера Сергеева...). Но - подкралась перестройка... Затеяли ее далеко не умнейшие люди России, а воспользовались - чистые хищники. Такого ограбления государства "своими людьми", видимо, не знала мировая история. На драматическом съезде писателей в начале 90-х я дважды брал слово, поддерживая на выборах кандидатуру в Первые секретари своего однокашника по Ломоносовскому мореходному училищу Бориса Романова - капитана дальнего плавания, первого руководителя Мурманской организации Союза писателей РСФСР. Я знал в Борисе Степановиче главное - литературную состоятельность и честность... Он стал Первым секретарем Союза. Организациям на местах в ту пору становилось все труднее. И надо же: человек, более всего навредивший России, на лету изменивший "свои убеждения", проклинаемый ныне подавляющим большинством русских людей, Борис Ельцин, издал Указ, "рекомендовавший" властям на местах помогать творческим работникам... Увы, но пока только этот давний указ поддерживает призрачную надежду писателей на улучшение условий существования их как литераторов... В 1991 году отважный человек, хороший тверской писатель Михаил Петров задумывает выпускать новый "литературно-художественный и историко-публицистический" журнал "Русская провинция", приглашает в редколлегию меня, критика Валентина Курбатова, Дмитрия Балашова, Бориса Романова... Мне думается, Михаил Петров совершил настоящий литературный подвиг: "Русская провинция", прекрасный "тонкий" журнал выходил 10 лет. Печатал он и мои рассказы - "Чистая" вышла в 1-м номере... Рассказы я писал редко, все - повести... Только сейчас, в нынешних условиях, когда у многих могут опуститься руки, потянуло к "малой форме". Может быть, наше время слишком калейдоскопично? Нет "твердой линии" ни в обществе, ни в тебе самом? И можно ухватить взглядом или мыслью только какой-нибудь фрагмент явления, а не все его? Может быть... А может, и в душе пробоины и пустоты, - много горького в последнее время пережито? Не пора ли сосредоточиться, как в молодости, юности?.. Во всех этих вопросах и ответах есть, есть смысл... ...Не так давно, будучи на родине, в Орле, передал тамошнему литературному музею И.С.Тургенева несколько своих книг. В давнее уже время первым из писателей Орла, с кем я подружился, был - тогда, в конце 70-х, ответственный секретарь организации - поэт и краевед Василий Катанов. Позже теплые отношения (в короткие встречи на съездах да в отпкускных побывках) сложились с поэтами Виктором Дронниковым и Геннадием Поповым... ... Вскоре после передачи в музей книг получил письмо от заведующей его фондом "Редкая книга" Лилии Георгиевны Солодухиной с предложением сотрудничать с музеем и при возможности прислать какие-нибудь личные материалы. Письмо выдавало доброго, внимательного - в общем, хорошего человека. Еще раньше, в 1981 году, в Орле вышел биобиблиографический словарь "Писатели Орловского края". Там нашел я и свою фамилию, - очерк обо мне написал орловский краевед И.А. Красноносов. В большом томе "Псковский край в литературе" (2003) тоже есть статья обо мне как о литераторе доктора филологических наук, профессора Н.Л. Вершининой. Так кто же я, пишущий повести и рассказы, - орловский (там у меня могила матери) или псковский (где у меня могила сына)? Я - русский, а родина моя - Орел... Там у меня живут два брата и две сестры. Старшие - брат в 13, сестра в 15 лет - в войну были угнаны в Германию... 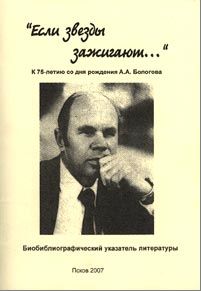 Сейчас (март 2006 года) пишу рассказы, - их печатают наши газеты, журналы. Не писать - не получается, и не хочется. Сердце подает сигналы, наподобие летописного: "Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу". Думаю, это и есть доля литератора. Вообще считаю, что писатель должен смотреть на предмет изображения с неблизкой точки, отойдя на расстояние. Литература - дело не злободневное, а "воскрешающее" прошлое, пусть и недалекое, но ушедшее. Воскрешение - для памяти, опыта, для понимания. Март 2006 года |
|
Если время потребует жертвы
В судьбоносный истории час, Значит мы еще духом не мертвы, И любовь не покинула нас Если мы не смиримся в бессильи И отринем вселенское зло, Значит, мы - еще дети России, И Победа встает на крыло. ________________________________________ Царь и мудрец. Во все эпохи Меж ними высился барьер. И что в одном имелось крохи, В другом с избытком. Например, В одном ума шальная сила, В другом - руки слепая власть. Природа их разъединила, Чтобы себя потешить всласть, Чтобы, устав от совершенства, Вдруг испытать из всех блаженств Необъяснимое блаженство От сладости несовершенств. О, как загадочно блуждала Улыбка по ее лицу, Когда народ она вручала Очередному подлецу. И как рыдала непритворно, Себя за игрища коря, Когда добра и правды зерна Бросал мудрец к ногам царя ________________________________________ Привычная картина - Крестьянское былье: На окнах паутина, На крышах воронье. Усталое приволье, Смиренная река.. Ржавая правда поля Не вызрела пока. Мы все отсюда родом - Из простоты святой. Ох, трудно быть народом И так легко - толпой. Забыть отраду, войны, И звезды, и кресты... Ох, трудно быть достойным Державной высоты. ...Корова-сиротина Мычит, траву не ест. На что уже скотина, А счастья в жвачке нет. ________________________________________ В середине московского лета, В коей плоть досыта разогрета, Там, где млеют кремлевские ели, Среди пестрой и шумной толпы, Озирающей власти столпы, Я взмолил небеса о метели. Не о той, что стенает и воет, А о той, что навечно хоронит, Той, что вымела Наполеона, Что следы замела декабря. А потом заодно — февраля, На котором померкла корона. Той, что воином грозным и верным Разметала врагов в сорок первом... Ой, метуха, шалоник каленый! Замети кривопутье и гать! В белый саван приди спеленать Наше лихо под ратные звоны. Гей ты, посвист лихой! Ваша снежесть! Ты повымети всякую нечисть! Убели снега белого-беле Почерневшие души людей... В середине Москвы в летний день Я взмолил небеса о метели. ________________________________________ — Господи! Чем засыпать мне пропасть эту, Что лежит между злом и добром? — Я и Сам не знаю ответа, Мирозданье пройдя пешком. — Господи! Где найти мне такие силы, Чтобы мир принимать, как он есть? — Это знают одни могилы, Но живым не слышна их весть Россия, когда же в набат? Россия, Россия, доколе страдать Твоим неприкаянным жителям, Полей измождённых хранителям, Церквей и погостов ревнителям... Россия, доколе страдать? Россия, Россия, доколе терпеть Раздор нашей вотчины древней, Убогие веси, деревни, Продажность столицы-харчевни? Россия, доколе терпеть? Россия, Россия, доколе прощать Вещателей лживость стоустую, Предателей власть эту гнусную, Безвинную кровушку русскую? Россия, доколе прощать? Россия, Россия, когда же в набат Ударит твой новый мессия, И выйдут на бой все живые Во имя спасенья России? Россия, когда же в набат? Россия, Россия, доколе страдать Твоим неприкаянным жителям, Полей измождённых хранителям, Церквей и погостов ревнителям? Россия, доколе страдать? Россия, Россия, доколе терпеть Раздор нашей вотчины древней, Убогие веси, деревни, Продажность столицы-харчевни? Россия, Россия, доколе терпеть? Россия, Россия, когда же в набат Ударит твой новый мессия, И выйдут на бой все живые Во имя спасенья России? Россия, когда же в набат? Россия, когда же в набат? ________________________________________ люблю ту Великую, грешную, Ту, ушедшую в вечность, страну И за веру ее сумасшедшую, И за праведную вину. Не просила у мира, не кланялась, Берегла свою честь испокон, И прости ее, Боже, что каялась Не у тех, к сожаленью, икон. Было все: упоенье победами, Были всякими годы и дни, Но над всеми смертями и бедами Было что-то, что небу сродни. И когда-нибудь праздные гости Спросят новых вселенских святых, Что за звезды горят на погосте? И услышат: — Молитесь за них. ________________________________________ Мы давно городскими слывем, Но деревня, откуда я родом, То напомнит своим говорком, То крестьянским укладом особым, То весенней мольбою полей Позовет среди ночи несмело... Сколько нас, деревенских детей, В городах и столицах осело? Мы порой сторонимся родства С избяной, бездорожной, забитой, С той Россией, что чудом жива, С той, что нами и Богом забыта. ...Я уеду из дома в метель В ту затерянную, родную Деревеньку, где старая ель Стережет пятистенку пустую. По сугробам следы торопя, Постучусь в крайний дом у дороги. Но уже не признает меня Дед Кузьма, повстречав на пороге. Я скажу, что когда-то здесь жил, И здесь родина нашего рода, Что к нему на засеку ходил За пахучим, за липовым медом, Что весной насовсем я вернусь, Стану сеять, косить возами... И увижу я скорбную грусть У него глубоко, за глазами. ________________________________________ Как мудро можем мы молчать, Как отрешенно ненавидеть, И равнодушием обидеть Любимых: родину и мать Как оправдания легко Находим своему безделью И верим, что страшней похмелья На свете нету ничего. И потому наглеет речь На Западе и на Востоке, И гибнут русские пророки, И ржа съедает русский меч ________________________________________ * * * На этой земле, в этом городе Кто-то из нас — чужой: Или эти — с гладкими мордами, Или я — с разбитой душой. ________________________________________ * * * Из пустоты и одиночества, От бреда рока и картин Туда, где белое пророчество Российских праведных равнин. Туда, где оттепель крещенская Снедает ласково снега, И где прощение Вселенское И где Вселенская тоска... Уйти, уехать, улететь ли, Простив долги, забыв права, Чтоб душу вытащить из петли, Пока она еще жива. И там, за серыми пригорками, Где превратился в камень крик, Вдруг пожалеть осины горькие И угасающий родник. Среди покоя и безбрежности В той примиряющей дали Найти смиренье в тихой нежности К уставшим путникам земли. Там на рассвете вздрогнет звонница, Благословение верша. И прежней верою наполнится Неубиенная душа. ________________________________________ * * * Зима, а все вокруг живое — И ель, и выплески рябин Воспоминанием о зное И предсказанием седин. Склонились ивы-коромысла Под пышной тяжестью снегов. Полны таинственного смысла Скороговорки воробьев. А в полдень расшалится ветер, Играя с рощицей в снежки, И стихнет вдруг, грустя о лете И сон тревожа у реки. Березы тают меж снегами, В вечерний падая зенит, И долго вслед за снегирями Живая радуга скользит. Короткий день покорен вечеру, Как будто он тому виной, Что суетою человеческой Нарушен благостный покой. ________________________________________ ОТ ПУШКИНА — ДАНТЕСУ Артиллеристы рифмой не владели, Но знали, как за Родину стоять. И защищали честь ее на деле, Поскольку грех — о Родине болтать. И в год, когда неодолимой силой Они с боями к Сороти пришли, Где родина поэта и могила, Где часть души славянской всей земли, “Приют спокойствия, трудов и вдохновенья”, Где каждый камень осквернен врагом, Они за все поэтовы мученья По чести рассчитались с должником. И с русским свистом понеслись над лесом Снаряды всех калибров из стволов, Неся слова: “От Пушкина — Дантесам За жизнь, за слезы, за любовь”. Дантесам всех времен и всех наречий, Стреляющим, плюющим в души нам, За всех, кто жил и будет жить здесь вечно Назло Дантесам и другим врагам. За нашу честь, за славу, за могилы, Пускай над ними звезды иль кресты, За край наш отчий, горестный и милый, Исполненный душевной красоты. И пусть сейчас какой-нибудь повеса Мне возразит: “Зачем, мол, ворошить?” Они живут — наследники Дантеса, И рано нам оружие чехлить. ________________________________________ * * * Нас время вздымало на гребень эпох И в бездну бросало, к подножью. И не было в мире труднее дорог, Чем русской судьбы бездорожье. Нам выпало видеть Божественный лик Далекий в своем совершенстве, Но дорого мы заплатили за миг Неясных предчувствий блаженства. Нас многих от качки поныне тошнит И рвет наизнанку души. Мы бредим, за ванты держась и бушприт, О счастье незыблемой суши. Теперь мы готовы все бросить за борт, Что лишнего взяли у Бога. Но кто в штормовом океане найдет В спокойную гавань дорогу? Теперь мы покорно течем, как вода, Зажатая в трубах и шлюзах. За нашей кормой догорает звезда Над братским безмолвьем Союза. Мы смотрим, как топчат судьбы нашей след, Храня, словно нищие, крохи. И в мертвых глазах отражается свет Великой и горькой эпохи. ________________________________________ ЧУЧЕЛО В мой огород повадилось Настырное жулье. Наверно им понравилось Мое житье-бытье. Мне их пугать наскучило Словами и без слов. И сотворил я чучело Из равных лоскутков. Приделал морду умную, Дал в руки кнут и жесть, Под музыку бравурную Воздал хвалу и честь. Мол, стой на страже истово, Пугай сорок-ворон И всякого нечистого, Что прут со всех сторон. Сперва сомненье мучило! По чучелу ли груз? Но очень скоро чучело Вошло, видать, во вкус. Так огородом правило, Взяло такую власть, Что ничего — по правилам, А можно только красть. И так как за калиткою Особый был надзор, То в общем-то непрыткий я Сигал через забор. А если зазеваешься, Зацепишься за край, Зубов не досчитаешься Иль взятку подавай. И потому ждал полночи И хлеб сухой жевал, Чтоб взять на грядках овощи, Что сам весной сажал. Теперь одно в сознании: Как чучело убрать. То ли поднять восстание, То ль килера нанять, То ль поклониться в ноженьки: Прости, мол, виноват. И молча по дороженьке Куда глаза глядят. ________________________________________ * * * Как мудро можем мы молчать, Как отрешенно ненавидеть, И равнодушием обидеть Любимых, родину и мать. Как оправдания легко Находим своему безделью И верим, что страшней похмелья На свете нету ничего. И потому наглеет речь На Западе и на Востоке, И гибнут русские пророки, И ржа съедает русский меч. ________________________________________ * * * Душа взалкала постоянства. Ей опротивело скакать По временам и по пространствам И расставаться, и встречать. Ей захотелось, малой птахе, Увидеть сны в родном краю, Сложить у вечности на плахе Повинно голову свою. И, вспомнив милые ей лица И сокровенные места, Внутри себя остановиться, Как у пасхального креста. ________________________________________ * * * Выбрасывают книги на помойку. Наверно, завершают перестройку. Иль, может быть, готовит человек Себя к отплытью в XXI век. А там всё будет круто и толково, Обузой станет человеку Слово. Не будет ни сонета, ни романа, А будут только кнопки да экраны. И всё заменит — шёпот, стон и крик — Компьютерно-рассудочный язык. И будут петь и плакать — все на нём… Но, слава Богу, мы не доживём. ________________________________________ * * * Я живу на обломках идей, На развалинах Божьего Храма, В государстве усталых людей, Посреди многоликого срама. И когда для надгробья кресты Обреченно увозят на Терек, Мне на память приходят киты, Что выбрасываются на берег. 1997 ________________________________________ * * * Мои старомодные вещи Полны молчаливой гордыни. Их мир беспощадный и вещий – Да будет он проклят отныне. Оденем иные одежды, Прославим другие фасоны, А старые наши надежды пускай проскрипят патефоны. Забудем, что пили и ели, Каким поклонялись портретам, Покинем окопы и щели И выйдем гулять по проспектам. Какая веселая шутка, Что к прошлому нету возврата. Да здравствуют гласность желудка И сытые дети Арбата. Поклонимся рынку, как храму, Где черноволосы святые. Не имут умершие сраму, Когда непорочны живые. Под знамя, что бойко трепещет, Пройдем все и станем другими… Мои старомодные вещи Полны молчаливой гордыни. 1987 ________________________________________ СТАЛИН Кому за это поклониться: Судьбе, России, небесам? Мелькают царственные лица, Подобно прожитым векам. И среди разных в списке длинном В двадцатом веке роковом Стоит он грозным исполином И верноподданным отцом. В простой одежде, без отличий, Погасшей трубкой жест скупой... И свет державного величья Над поседевшей головой. Его с Россией обвенчали, Продлится жизнь её доколь, И венценосные печали, И человеческая боль. Его народ мечтал о небе, Круша врагов, смиряя плоть. Он дал насущного нам хлеба – Из Божьей житницы ломоть. Его всенощная молитва Звездой алеет в небесах. Идёт невидимая битва За царство светлое в сердцах. И слово плавится от боли И, мрак пронзая, рвётся ввысь. Воскресни сталинская воля! И мудрость Сталина явись! Ещё не ночь, ещё не поздно Соединить две высоты: На храме крест, на башнях звёзды – Две вековечные мечты. ________________________________________ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА Я пришел — попрощаться с душой отлетевшей — В перестроенный в торжище храмовый дом. Возле тела усопшего люди поспешно Говорили о ком-то, совсем о другом, На него не похожем — во гробе лежащем, И которого знал я — подарок судьбы — Приземленным, как пахарь, как птица, летящим, Верноподданным русской, крестьянской избы. Я прощальные речи ничем не нарушу, Попрошу лишь Творца об одном: — Упокой В светлом Царстве небесном усталую душу, Ту, что знал Ты один в ее жизни земной. ________________________________________ * * * Был вечер. Предгрозовье. Тишина. Люд суетливо прятался под крыши. Таинственно молчала глубина, Рождая в чреве огненные вспышки. Безгласные, мгновенные — они Выхватывали в сумраке болотном То хаос тел, чудовищам сродни, То скинию в обличье первородном. Болезненным желанием томясь, Весь город ждал, когда в противоборстве Тьма обретет незыблемую власть Над вспышками смешными в непокорстве. Напоминало каждое окно Театр теней, шаманство или даже Немое действо старого кино, В котором стерли фразы персонажей. И невозможно было разгадать Движенье губ и рук немые жесты. ...Все реже небо стало полыхать, Как будто вняв безмолвному протесту. Ночь поглотила призрак грозовой, И затерялся он в просторе горнем, Не став ни очистительной грозой, Ни ливнем беспощадно животворным. ________________________________________ * * * И был усталый, пасмурный октябрь. Толпа текла в порядке идеальном. И захотелось шторма семибального, Порыва бури, рвущей с неба хмарь. Природы бунта жаждала душа, Слепого и неистового в битве С покорностью, распятой на молитве, С самодовольством медного гроша. И будь что будет! В бурю капитан Корабль не к берегу, а на простор уводит. ...В смирительной рубашке тихо бродит Октябрь по московским площадям. ________________________________________ * * * Душа взалкала постоянства. Ей опротивело скакать По временам и по пространствам И расставаться, и встречать. Ей захотелось, малой птахе, Увидеть сны в родном краю, Сложить у вечности на плахе Повинно голову свою. И, вспомнив милые ей лица И сокровенные места, Внутри себя остановиться, Как у пасхального креста. ________________________________________ ПОСЛЕДНИЙ ЦЕЗАРЬ "Идущие на смерть приветствуют тебя!" Мой повелитель, властелин мой, враг мой. Ни нынешний, ни век минувший не любя, Дорогой мы уходим невозвратной. "Идущие на смерть приветствуют тебя!" В порыве жертвенном искажены уста, И небо содрогается от крика. В нем преданность рабов твоих и немота Ушедшей в вечность Родины великой. В порыве жертвенном искажены уста. Нас тьмы и тьмы. Идем, не нарушая ряд. И задние в лицо не знают первых. За нами позади кресты, кресты стоят, А впереди загон для самых верных. Нас тьмы и тьмы. Идем, не нарушая ряд, Под музыку лихих заморских трубачей И под родное наше Алилуйя! Из ножен не достав заржавленных мечей, Уходим мы в небытие, ликуя. Под музыку лихих заморских трубачей. Виват, мой властелин! Повелевай и правь! За нами нет ни мстителя, ни Бога. Поднявший кнут над стадом трижды прав, Но вcё ж горит вдали возмездием дорога. Виват, мой властелин! Повелевай и правь. ________________________________________ * * * Если время потребует жертвы В судьбоносный истории час, Значит, мы еще духом не мертвы, И любовь не покинула нас. Если мы не смиримся в бессилье И отринем вселенское зло, Значит, мы еще дети России, И Победа встает на крыло. ________________________________________ * * * Нас время вздымало на гребень эпох И в бездну бросало, к подножью. И не было в мире труднее дорог, Чем русской судьбы бездорожье. Нам выпало видеть Божественный лик Далекий в своем совершенстве, Но дорого мы заплатили за миг Неясных предчувствий блаженства. Нас многих от качки поныне тошнит И рвет наизнанку души. Мы бредим, за ванты держась и бушприт, О счастье незыблемой суши. Теперь мы готовы все бросить за борт, Что лишнего взяли у Бога. Но кто в штормовом океане найдет В спокойную гавань дорогу? Теперь мы покорно течем, как вода, Зажатая в трубах и шлюзах. За нашей кормой догорает звезда Над братским безмолвьем Союза. Мы смотрим, как топчат судьбы нашей след, Храня, словно нищие, крохи. И в мертвых глазах отражается свет Великой и горькой эпохи. ________________________________________ * * * Что в тайниках и есть ли тайники? Я не о тех, что пахнут нафталином, Не тех — в пространстве песенно-былинном, Куда глядят с тоской из-под руки Или идут покаянно с повинной. Я не о них, хотя и путь к ним свят. И не о тех живительных и вечных, Где спят дожди, где зажигает свечи Осенних рощ ноябрьский закат, Не о равнинах русских бесконечных. Но есть ли тайники, что сберегли Бесстрашие, и жертвенную силу, И долг живых — не ворошить могилы, И боль при виде матери-земли Ограбленной, униженной, но милой? Где те места, где русский род хранит Непорченые зёрна для посева, Где русая с небесным взором дева Богатыря Илюшеньку родит, Исполненного праведного гнева? Как будто Китеж, “Курск” или “Варяг”, Нас поглощает медленно пучина. Где мужество, чтоб не искать причины, А бить врага лишь потому, что — враг, Чтоб не стыдиться матери за сына? ________________________________________ * * * Задохнулось пространство от гари, Поперек то стена, то шоссе… Наследили разумные твари На земле, в небесах и в душе. Я уеду весеннею ранью В тихий домик на светлой Угре, Где меня лошадиное ржанье На луга позовет на заре. В звонах радостных травостоя Возвеличится волей душа И целебный напиток покоя Из небесного выпьет ковша. Над приземной разноголосицей Песня жаворонка воспарит. Ах, как жить, ах, как жить-то хочется, Запрокинув сердце в зенит! О, Творец! Не прообраз ли рая Этот луг, этот благостный свет? И посмотрит, согласно кивая, Лошадиная морда мне вслед. 2004 ________________________________________ * * * Памяти Алексея Фатьянова Поэты военной поры, Высокой судьбы песнопевцы! Вращаются ваши миры, Как спутники русского сердца. Не гаснут ни днем, ни во мгле. И тихо звучат позывные, Чтоб нам на озябшей земле Не выстудить имя Россия. Чтоб мы не забыли свои Великодержавные были, Чтоб русских солдат соловьи От снов колдовских пробудили. Не гаснет в печурке огонь, И память не старится наша, Фатьяновская гармонь Играет походные марши. ________________________________________ * * * Дулёво, Жостово, Аксаково... Благословенные места. Усталый свет закатов маковых, Зари рассветной чистота. Есть память душ. Она – таинственна Вдруг оживёт, заговорит, И воскрешается молитвенно, На чём Святая Русь стоит. Там в глубине полей порушенных, В сиротской скудости лесов Звенит державный меч, разбуженный Стенаньем преданных отцов. Там тени мстительные бродят, Как призраки в метельной мгле, Где проростает чужеродье На русской издревле земле. Они в единый строй смыкаются, Пройдя Россию вдоль и вширь. Уходит ночь. Он просыпается Илюша – русский богатырь. ________________________________________ |
|
Нет крестов здесь
и нет обелисков. Здесь тропинки не сыщешь нигде. Но сегодня я кланяюсь низко Потемневшей, притихшей воде. Ты сюда не придешь в годовщину По дорогам осенних штормов, Не присядешь в тени под рябину, Не насыплешь на холмик цветов… Я хочу, чтоб с любого маршрута, Здесь, где тяжкие были бои, Корабли, проходя, на минуту Приглушали б машины свои. |
|
На картах море обозначено только синим, а на самом деле оно бывает очень разным. Оно бывает строго темно-синим в снежно-белых льдинах, напоминающих куски рафинада на Камчатке, оно бывает бутылочно-зеленым у японских берегов, мутно-желтым у Вьетнама, изумрудно-зеленым у берегов Цейлона, лазурно-голубым в Средиземноморье.
У него изменчивый характер, оно то ласковым котенком увивается у ног, то, нахмурившись, с шипением катит нескончаемые валы, с которых ветер клочьями срывает белоснежную пену, то встает неумолимой свинцовой стеной и падает тысячами тонн на стальную палубу корабля, сминая леера и снося на своем пути все незакрепленное. Море может заставить человека почувствовать свою ничтожность, а его сердце – трепетать от ужаса. Тогда сам себе покажешься крохотным кусочком плоти на маленьком островке железа, затерянном в безбрежном хаосе бушующего океана, поглотившего уже миллионы жизней. Неумолимая и бесстрастная статистика подтверждает, что каждый день в море гибнет минимум одно судно, десятки моряков уходят на дно и каждый день в зале страхового общества Ллойда печально звонит колокол с погибшего фрегата «Ла Лютин», а черная страница в журнале «Морской флот» называет корабли поименно. Море может подарить тебе такую радость, которую ты никогда и нигде больше не встретишь. Когда сердце от восторга выскакивает из груди, когда хочется во все горло кричать от переполнивших тебя чувств, стоя на мокрой, уходящей из-под ног палубе, вцепившись руками в леера, обдаваемый мириадами соленых брызг, вспыхивающих на солнце, как маленькие бриллианты… Средний морской танкер «Илим» в составе соединения кораблей восьмой оперативной эскадры в восемнадцать вымпелов уже шестые сутки медленно пробивался из Коломбо сквозь штормящий Индийский океан к точке рандеву –острову Сокотра. Судно шло на капитальный ремонт во Францию, изношенная машина не позволяла держать ход больше восьми узлов. Суровый закон морских конвоев – держать эскадренный ход по самому медленному судну – не позволял соединению кораблей быстро проскочить опасные широты. К тому же у сторожевиков и эсминцев старых проектов были на исходе топливо и котельная пресная вода, а затянувшийся шторм не давал танкеру возможности заправлять их на ходу. Океан бросал корабли как щепки, особенно доставалось эсминцам и сторожевикам, порой скрывавшимся в волнах до самого мостика. Их узкие корпуса со стремительными обводами, приспособленные для скоротечного боя, плохо «отыгрывались» на штормовых волнах. То и дело доносился вой оголенных винтов, когда корабль подбрасывало на гребне волны. Каково приходилось на них людям, можно было только догадываться, поскольку большинство матросов были первогодками. Танкеру с его низкой палубой доставалось меньше, но все равно волнами погнуло фальшборт на баке и снесло часть леерного ограждения по левому борту. Моряки, измученные беспрерывной качкой, зевали на ходу. Питались консервами из штормового рациона. Однако соединение упорно пробивалось к цели. Первым из кораблей начал сдавать эсминец «Дальневосточный комсомолец», корабли этого проекта не были предназначены для дальних океанских походов – у него заканчивались горючее и котельная вода. Через десять часов корабль мог превратиться в железную коробку, беспомощно болтаюшуюся на волнах. Заправку нужно было провести во что бы то ни стало! Несколько раз эсминец подходил к танкеру с кормы, но толстые швартовы, заведенные с помощью линемета, рвались, как гнилые нитки, а лопнувшие шланги обдавали полубак эсминца водой и мазутом. Но корме танкера и на баке корабля стояли моряки в спасательных жилетах, закрепленные шкертами на штормовых леерах. Надежда на успех таяла с каждым часом. Настал критический момент – в линемете остался предпоследний заряд и всего два толстых полипропиленовых троса. Улучив момент относительного затишья, эсминец приблизился к корме танкера. Негромко хлопнул линемет, полетела выброска, таща за собой тонкий шкерт проводника и, наконец, попала на бак эсминца возле орудийной башни. Матросы быстро завели швартов, протянули шланги, дали давление. Заправка пошла. Моряки с замиранием сердца смотрели на трос, который то провисал, угрожая намотаться на винт, то натягивался до звона , готовый вот-вот лопнуть. В напряженной тишине, нарушаемой лишь свистом ветра, прошло полчаса ,за которые никто на корме не произнес ни слова. До окончания полной заправки оставалось еще минут сорок, когда все увидел одинокую огромную волну, стеной идущую на корабли. Настоящий «девятый вал». Эсминец взмыл на гребне волны, задрав к небу форштевень – так, что стало видно поросшее водорослями днище. Нос корабля, обвитый натянувшимися шлангами, как гигантский серый топор с пятнами ржавчины, навис прямо над кормой танкера. Все, кто был на корме, судорожно вцепившись в леера, молча ждали своей участи. Эсминец, проломив корму и затопив машинное отделение, гарантированно отправил бы танкер на дно и не факт, что уцелел бы при этом сам. Шансы на спасение были минимальны – в штормовом океане не спасся бы никто! В это время форштевень «Комсомольца»резко ушел вправо, шланги лопнули, обдав корпус корабля водой и мазутом. Швартов выдержал, но тут же из палубы с леденящим душу скрежетом, сминая листы обшивки как бумагу, начал вырываться кнехт. Мощное швартовное устройство, намертво закрепленное на палубе, легко, как пробка из шампанского, косо взлетело в воздух и, снеся по пути несколько антенн на эсминце, бесследно кануло в беснующуюся пучину. Трос хлестнул по морякам боцманской команды и «припечатал» несколько человек к барбету носовой башни, Послышались крики о помощи. Однако обошлось без жертв, ушибы и вывихи были не в счет. Танкер поднялся на гребень волны. Жалобно взвыл оголенный винт и заскрипели шпангоуты, даже д огнетушители сорвались с гнезд. Ни до, ни после этого я не видел и не слышал о подобном. Даже много повидавшие французы-ремонтники на заводе с удивлением качали головами, разглядывая громадную дыру в кормовой палубе, через которую было видно румпельное отделение. Шторм неожиданно начал стихать, но мертвая зыбь громадными холмами с белыми гребнями шла еще около суток. Но дело было сделано – эсминец получил достаточно воды и топлива, чтобы дотянуть до острова Сокотры. Через день, когда шторм окончательно стих и танкер на ходу произвел дозаправку кораблей эскадры, на горизонте замаячили неясные очертания долгожданного острова. Океан был тих и спокоен, ничто уже не напоминало о прошлом шторме. Однако на кораблях заметно прибавилось работы – везде правили, сваривали, красили, подсчитывали ущерб. Больше всех досталось «Дальневосточному комсомольцу»: старый корабль получил множество вмятин на корпусе, заклинило часть дверей, погнуло фальшборт и половину лееров. Стоянка на Сокотре была недолгой и после короткого «косметического» ремонта танкер двинулся дальше, к берегам Европы. Однако еще долго в кошмарных снах нас преследовал этот острый кованый форштевень с красной звездой и кровавыми пятнами красного сурика, неумолимо вырастающий над нами из морской пучины… |
|
Щелкнув предохранителями, мы привычно закинули автоматы за плечи и отправились заниматься обычным за два года рутинным делом – сменой часовых. Необычным было, пожалуй, только то, что этот караул был для нас последним – служба заканчивалась, настал долгожданный «дембель». Впереди была такая желанная и немного пугающая своей неиз-вестностью гражданская жизнь.
На следующий день должна была прибыть колонна с техникой и пополнением – нашей заменой, после чего одиннадцатый зенитно-ракетный дивизион должен был снова стать полноценной боевой единицей и заступить на дежурство. А нам предстояло отправиться в штаб бригады и уже оттуда эшелоном – домой. Дело в том, что большинство офицеров и солдат дивизиона было отправлено в Египет, на защиту аэродромов Каира и Асуанской плотины (в то время шла очередная арабо-израильская война и советские военные в ней активно участвовали). Часть техники отправили на ремонт, и в дивизионе остались только три офицера, старшина да два взвода солдат, половина из которых была «дедами». В задачу дивизиона входила имитация бурной деятельности на стационарной позиции, дабы супостаты ничего не заподозрили, чем мы с удовольствием и занимались – благо реально стрелять можно было только тремя боеготовыми ракетами. А пока что я с двумя караульными шел по узкой тропинке между кустами менять посты. Стояла бурная приморская весна, все кругом цвело, зеленело и одуряюще пахло ландышами, которые в изобилии росли вокруг огневой позиции. Весеннюю идиллию нарушал лишь разноголосый лай караульных собак – в дополнение к штатным кавказским овчаркам на позиции ошивалось еще штук пять приблудных дворняг, добросовестно отрабатывающих казенный паек. Не найдя часового на привычном месте – возле позиции спаренного зенитного пулемета, мы уверенно направились к окопу второй пусковой установки. Как и ожидалось, наш «дедушка»-часовой нес службу там. Худенькая тушка ефрейтора Шварцмана, слегка подрумяненная на майском солнышке, покоилась на массивной плите газоотражателя, ничуть не смущаясь нависавшего над ней сопла стартового двигателя ракеты. Курчавая голова с большими, оттопыренными ушами приподнялась от подсумка с магазинами, используемого в качестве подушки, и томный голос произнес уставную, хотя и слегка запоздавшую фразу «Стой! Кто идет? Пароль?». – Ты, Воца, совсем себя не бережешь, – хныкающим старушечьим голосом дурашливо пропел в ответ ефрейтор Коля Анцупов, давясь от смеха. Шварцман, моментально разозлившись, спрыгнул с пусковой и, по-тешно сжав маленькие кулачки, пошел на нас. Вид разозленного, полуголого и лопоухого Вовы, прущего как танк на трех человек с автоматами, был настолько несуразен, что мы все буквально покатились со смеху. Дело в том, что уроженец солнечной Одессы Вова Шварцман, послуш-ный и начитанный мальчик из интеллигентной семьи, попав в армию, уже через неделю написал родителям в письме, как он (со своими боевыми товарищами, разумеется) участвует в штыковых боях на китайской границе. Естественно, что папа с мамой обратились со слезной просьбой в военкомат, а бабушка Соня послала срочную телеграмму со словами « Береги себя, Воца!». Содержимое необычной телеграммы сразу стало достоянием общественности, а бедный Вова – мишенью для острот. Служивый народ всячески изощрялся в остроумии, на разные лады, но всегда с подчеркнуто искренней заботой интересуясь, бережет ли себя Воца и не надорвался ли он службе. Поначалу Вове, конечно, пришлось несладко, но со временем ефрей-тора Шварцмана, оператора радиолокационной станции наведения и специалиста первого класса, «подкалывать» рисковали уже только одногодки. Да и сам Вова из тихого, интеллигентного мальчика превратился в маленького, но очень задиристого и подчеркнуто грубоватого солдата. – Ладно, Вова, кончай! – сказал рассудительный Стас Лимарчук. – Нечего тут выеживаться, мне уже заступать пора! Прихватив с собой бурчащего Шварцмана, мы пошли менять второй пост, находившийся в автопарке, где стояли на консервации гусеничные артиллерийские тягачи, собранные со всей бригады. Некогда неплохие машины АТС 712 и АТС-59 сейчас представляли из себя кучу железного хлама, практически никуда не ездили, однако для приличия за ними числилось отделение водителей, с гордостью носивших на петлицах танкистские эмблемы и не снимавших танковых шлемов даже в туалете. К тому же их надо было еще и охранять. По дороге к парку мы застали трех наших хлопцев, выполнявших так называемый «дембельский аккорд» – копавших яму для нового солдатского нужника. За это командир дивизиона обещал отпустить их домой с первым эшелоном, и парни старались вовсю. Грубо сколоченная новенькая будка, выполненная без всяких архитектурных излишеств, уже стояла рядом. Возле ямы сидел на корточках наш дивизионный старшина-прапорщик Иван Забияка и нудным голосом инструктировал ребят, как правильно держать лопату. Те вяло отругивались, впрочем, не выходя за рамки уставного приличия. Надо сказать, что наш прапор был большим занудой. Маленького рос-та, с круглыми глазами навыкате и пышными фельдфебельскими усами, он был в дивизионе как бог Саваоф – «и всюду и нигде». Были у него, однако, и вредные привычки. Утром, за полчаса до подъема, он подкатывал к казарме на отчаянно тарахтящем мотоцикле, чем прерывал самые сладкие эротические солдатские сновидения. Поскольку на деликатные намеки о неуместности подобных деяний прапор не реагировал, пришлось солдатам однажды затащить его мотоцикл на крышу склада и потом имитировать его бурные поиски. Старшина намек понял, поэтому стал глушить мотор за двести метров от казармы и толкать мотоцикл до самого входа. Еще он любил «заложить за галстук» и обожал ночью проверять посты. Причем война шла с переменным успехом – бдительные часовые частенько его обнаруживали и укладывали на землю, но иногда и прапор ловил уснувших на посту пацанов и торжественно вез их на «губу». А еще дивизионные острословы слагали про него разные незатейливые частушки, благо фамилия у старшины легко рифмовалась со всякими нецензурными словечками. Самая безобидная частушка выглядела примерно так: «Влез в кусты, ступил на каку, вспомнил Ваню Забияку». Сменив на посту славного потомка латышских стрелков Вилю Скаудиса, на удивление бдительно несшего службу, мы направились было в караулку, как вдруг на командном пункте тревожно взвыла сирена. Рефлексы, доведенные до автоматизма постоянными тревогами, сработали безотказно. Отовсюду на позицию неслись полуодетые солдаты, уже взревели два дизеля и закрутились антенны локаторов. Но особо живописное зрелище представляли наши офицеры, до тревоги мирно сажавшие картошку на своих огородиках. Впереди всех, как и положено ко-мандиру, несся капитан Корсаков, в рваной тельняшке, старых синих галифе и сандалиях на босу ногу. На голове его красовался носовой платок, завязанный узелками по углам. Немного поодаль бежал в стареньком, выцветшем трико и шляпе-треуголке из газеты командир стартовой батареи старший лейтенант Тарасов. Сзади неспешно трусили их жены, неся в руках полевую форму и сапоги. Третий офицер, лейтенант Батюня, «двухгодичник» и потомственный ленинградский интеллигент, на свое счастье, уже с утра сидел в подземном бункере командного пункта и руководил работой локаторов. Раздав автоматы и подсумки, я, сдав старшине повязку и ключи от «оружейки», тоже помчался на позицию, хотя особой нужды в том и не было – на балке нашей пусковой установки лежала старая, неисправная ракета. Несмотря на неожиданность тревоги, дивизион управился в нормативное время и был готов к бою через пять минут. Локаторы уловили приближавшуюся цель, и наши три ракеты, задрав в зенит острые, хищные обтекатели боеголовок, уже рывками крутились на пусковых, следуя за маневрами самолета. Через десять минут над позицией на небольшой высоте просвистел старенький бомбардировщик Ил-28Р, который иногда пускали летать над дивизионами для проверки готовности и калибровки радиолокаторов. Потом последовало еще несколько «вводных», и в результате «готовность» с дивизиона сняли только к ужину. После ужина народу пришлось чистить оружие. Автоматы чистили «молодые», после всех ручным пулеметом занялся младший сержант Ильин, наконец-то дорвавшийся до заветной игрушки. Балбес решил проверить пулемет, зарядил патрон и нажал на спуск. Пулемет исправно сработал, и бронебойная пуля, пробив аккуратную дырку в стене казармы, ушла на волю. Забежав в «оружейку», мы застали его бледного как мел, с круглыми, вытаращенными глазами и трясущимися руками. Кое-как к отбою успокоили, отпоив валерьянкой. Дырку быстро замазали, недостающий патрон пополнили. Докладывать, естественно, никому не стали – себе дороже выйдет. Была уже полночь, моросил тихий, мелкий и теплый дождик, когда мы пошли в очередной раз менять часовых. Сапоги неприятно чавкали и скользили по грязи, набухшие от влаги плащ-палатки стояли колом, дрожащий луч фонарика метался по мокрым кустам, вспугивая ночных птиц. Дождь тихо барабанил по капюшонам, настраивая на грустный, философский лад. Изредка подсвечивая фонариком, прошли на позицию. Оставив Вову Шварцмана под постовым «грибком» на положенном месте, мы направились было по тропинке в парк, как вдруг услышали какие-то непонятные звуки, походившие на пение и матюки одновременно, исходившие со стороны нового нужника, загадочно белевшего во тьме свежими досками. С автоматами наизготовку мы потихоньку окружили строение и рванули дверь. На дне пустой (к счастью) ямы, вымазанный в земле, сидел наш прапор собственной персоной, с выпученными глазами и поникшими усами, и отчаянно ругался. Из ямы мы его, разумеется, вытащили, и он, взяв с нас слово никому ничего не говорить, поведал, как туда влетел. В силу своей дурной привычки Забияка решил, никому не сказав, проверить пост в парке. Перед этим ответственным мероприятием ему приспичило прогуляться «по-маленькому». Открыв дверь, старшина бесстрашно шагнул во тьму и… загремел на дно, поскольку бравые «аккордники», надвинув будку на свежую яму, о внутреннем убранстве абсолютно не позаботились. Яма была почти трехметровой глубины, и низкорослый старшина, видя бесплодность попыток самостоятельно выбраться из нее, затосковал. От тоски и начал «спивать коломыйки», подбадривая себя отборной матерщиной. Прапорщик поплелся с нами в казарму и завалился спать в каптерку, (благо до подъема оставалось четыре часа), предварительно сделав в журнале весьма краткую запись: «Служба несется бдительно, согласно УГ и КС» («Устав гарнизонной и караульной службы»), видимо свидетельствующую (если верить известному изречению) о его недюжинном таланте в эпистолярном жанре. Но долго спать никому не пришлось – едва забрезжил рассвет, как прибыла колонна с новой техникой и пополнением и началась обычная в таких случаях суматоха. Сменившись с караула, мы, сдав оружие и немудреное имущество, стали готовиться к отъезду, остро ощущая свою ненужность в этом, внезапно ставшем для нас чужим дивизионе, где уже распоряжались новый командир и горластые, молодые и незнакомые офицеры и сержанты. К вечернему катеру нас отвез чисто вымытый и украшенный цветущими черемуховыми ветками тягач. Наскоро попрощавшись, мы шагнули на качающуюся палубу, и вскоре все расширяющаяся полоска воды отделила нас от машущих руками сослуживцев. Навсегда! Легкий порыв ветра донес с берега тревожный звук сирены – одиннадцатый дивизион, уже в новом составе, продолжал нести службу. А у нас впереди была уже совершенно другая жизнь и другие тревоги… Прошло десять лет. Наш танкер проходил Суэцким каналом, направляясь в Средиземное море. На подходе к порту Исмаилия виднелась громадная стела-памятник защитникам Суэцкого канала в Первой мировой войне. Внимательно посмотрев в бинокль, я увидел на площадке возле стелы знакомые очертания ракет, антенн и кабин радиолокаторов. На площадке стоял развернутый и полностью укомплектованный зенитно-ракетный дивизион комплекса С-75, только окрашенный в песочный камуфляж. Лоцман-египтянин, не скрывая уважения, сказал, что этот дивизион, защищая авиабазу Абу-Суэйр, сбил много израильских самолетов. В знак признательности египтян он здесь поставлен навечно. Вот мы и встретились снова… |
|
– В общем так, бойцы, – сказал наш командир взвода старший сержант Вальтер Грапп, – надо на параде «сделать» автороту. Во что бы то ни стало! Кровь из носа – а должны сделать! А то ж, гады, нас за людей уже не считают!
Слова про кровь зловеще прозвучали в гулкой тишине пустой и полутемной полковой бани, куда мы собрались обсудить полученный накануне от начальника тыла бригады майора Вокса неприятный сюрприз – он вернул наш взвод с полдороги на стрельбище, куда мы с большим трудом вырвались, чтобы наконец пострелять, как положено солдатам. Видишь ли, в кочегарке уголь разгружать некому! Мы – это старослужащие и сержанты взвода – затаили за это большую обиду на начальство и решили доказать свою боеспособность не совсем традиционным, но единственно доступным нам способом. Взвод, в принципе, и так не был полноценным боевым подразделением – хозяйственный взвод во все времена и во всех армиях традиционно состоит из поваров, каптенармусов, писарей, кочегаров, сантехников, медиков и прочих военных, не имеющих непосредственного отношения к боевой работе. По большому счету, все управление нашей бригады ПВО вряд ли относилось к «боевикам», тоже вояки нашлись – связисты, радиотелеграфисты, планшетисты, дизелисты да шофера, посменно сидевшие в глубоких подземельях на Шамане – нашем командном пункте. Так, гонор один! Однако за бойцов себя держат! В боевых дивизионах на китайской границе, конечно, ребята работали с ракетами и по реальным целям, а кое-кто уже и «загорал» в Египте, защищая Асуанскую плотину. Но служба в противовоздушной обороне – это все же не спецназ и не пехота, где стрельба и строевая подготовка всегда на первом месте. У нас в бригаде «три патрона до присяги» было самым обычным явлением, а многие так и демобилизовались, ни разу не выстрелив. Тем не менее постоянные намеки на некоторую нашу «второсортность» со стороны автороты присутствовали, и самолюбивый Вальтер, как наш взводный, этого перенести просто не мог. Тем более, что авторота была впереди всех только по «самоволкам» и отсидкам на «губе», а общим хобби для бойцов автороты был сон на посту. Наш взводный Вальтер Грапп – из пермских немцев, ростом где-то под метр девяносто, «накачанный» спортсмен с отличной выправкой. Внешне он походил на классический тип царского гвардейского офицера начала века и даже слегка картавил. Военная форма сидела на нем как влитая даже без всяких переделок. Собрав всех сержантов и старослужащих в бане, Вальтер с чисто немецкой пунктуальностью довел до нас детально разработанный им план, по которому мы должны были на параде 7 ноября, побив всех конкурентов, непременно занять первое место. Это было очень трудно, тем более, что хозвзвод раньше в парадах никогда не участвовал и завзятых строевиков у нас отродясь не водилось. За оставшийся месяц мы должны были научиться ходить строевым ша-гом, отработать ружейные приемы с карабинами и подогнать форму, особенно шинели и шапки. Дальше, прямо в бане, начался отбор людей для строя. Результаты не радовали. Сразу отпали хлеборез Сабзалиев и пекарь Ким – парни были в прошлом борцы, с бычьими шеями и походкой враскачку, причем с разной амплитудой. Туда же зачислился и косолапый китаец Витя Ли с его типично радикулитной походкой. Под вопросом остались повар Хатам Махкамов – Хоттабыч, который мешковатой внешностью и грустным взглядом больших карих глаз походил на насильно мобилизованного Винни-Пуха, и свинарь Вася Двориков, носом-картошкой и безмятежными хитрыми глазками удивительно напоминавший Швейка. Оба бойца были ростом аж по 153 сантиметра, и карабин с примкнутым штыком возвышался у них почти до ушей. Самые маленькие размеры формы были для них заведомо велики, найти для них что-либо подходящее на складах части было очень трудно. Однажды Вася – в безразмерной пилотке, гимнастерке до колен и гро-мадных кирзачах, живущих самостоятельной от хозяина жизнью, – толкая тачку с объедками для свинарника, случайно попался на глаза комбригу. Тот, моментально потеряв дар речи, только мычал и молча тыкал в Васю пальцем, пока майор Вокс, его зам по тылу, не произнес ставшую знаменитой фразу о том, что советский воин одним своим видом должен наводить ужас на потенциального противника. Отцы-командиры, удовлетворенные каламбуром, довольно заржали и отпустили Васю с миром, наказав более на глаза не показываться. Решение с сапогами, шапками и шинелями подсказал пронырливый мо-сквич Петя Мотыль. На вещевом складе хранилось обмундирование для «партизан»-переподготовщиков, почти новое, вот его можно подобрать, отгладить и почистить прямо на складе и надеть только перед парадом .Старшина Веретенников, имевший прозвище Циркуль (за привычку, подвыпив, ходить правильными кругами), как завскладом, не будет возражать против этого за четыре бутылки, тем более что «дед» дослуживал последние полгода до пенсиона – он начинал еще в войну, семнадцатилетним пацаном, имел кучу орденов и медалей и абсолютно никого не боялся. Кроме того, старина Циркуль знал массу солдатских уловок, с помощью которых обычная форма выглядела как парадная. План был принят, единодушно одобрен, и народ разошелся его испол-нять. На следующем совещании, которое проходило для секретности в бомбоубежище, Вальтер поставил вопрос об отработке ружейных приемов и строевой подготовке. Все должно быть втайне: коварные враги из автороты не дремлют и что-то подозревают. Тренировки проводить на рабочих местах, а топать строевым поотделенно предстоит в старом бетонированном орудийном дворике, оставшемся еще от тех времен, когда на вооружении части стояли 100-мм зенитные пушки, надо только убрать оттуда учебные снаряды. Кроме того, предстояло найти еще десять человек до штатного комплекта. И не забыть, что праздничный обед и ужин тоже на нашей совести, об этом майор Вокс, не уставая, твердит уже с неделю, как будто и без него не знаем. Тем более, что наши повара-узбеки были дипломированными спецами и до армии почти все работали в ресторанах. С людьми выручили медики – трое фельдшеров и четыре только что прибывших из «учебки» здоровенных украинца-санинструктора. Хлопцы не шибко разбирались в медицине, но зато лихо ходили строевым и умели водить БМП (кто-то считал, что для медика это самое главное). Кроме того, писари вызвали из командировок еще пять человек, строивших где-то укрытия для самолетов, совершенно забытых начальством и слегка одичавших на свободе. Токарь Саша Борода за две «увольнительных» пообещал притащить из Владивостока сингапурского чудо-крема для сапог на весь взвод и оборудовать подковами из арматурной стали все каблуки. Вальтер не поскупился, выписал ему увольнение на двое суток. И старый самовольщик Борода не подвел! Оставалось только тренироваться и ждать. Взвод стал неузнаваемо тих и серьезен, в котельной по ночам кочегары ходили строевым шагом, держа кочергу «на караул» и «на плечо», повара отрабатывали повороты в строю в кладовых, Вася разучивал приемы в свинарнике, пугая хрюшек молодецкими командами. На «партизанском» складе уже висели на плечиках почищенные и отглаженные тяжелым портновским утюгом шинели уставной длины с новенькими петлицами и погонами, стояли кованые и начищенные сапоги. Даже двум нашим «маломеркам» все подобрали по росту. Получились два маленьких аккуратненьких солдатика. Время стремительно катилось к празднику, и, наконец, настал день 7 ноября. После завтрака, получив оружие, взвод быстро проследовал к складу, откуда через полчаса вышел совершенно преобразившимся. Даже звездочки на шапках, снятые со старых довоенных буденовок, случайно найденных в дальнем углу склада, были больше и ярче обычных, сияли надраенные пряжки ремней, нестерпимо блестели сапоги, новенькие черные погоны с подкладками из рентгеновской пленки красиво лежали на плечах, кроме того, весь взвод был в коричневых перчатках, купленных вскладчину в соседнем военторге. Обычно тусклые штыки стареньких карабинов СКС (они были старше каждого из нас минимум лет на пять), начищенные пастой ГОИ на шлифовальном круге, сейчас сияли на солнце. На плац мы, громыхая подковами по плитам, прибыли вовремя и скромно пристроились за авторотой, выделяясь из серошинельной массы своим молодецким видом. В общую компанию был вкраплен и взвод моряков из приданного бригаде дивизиона военных транспортов. Те ходить строем по суше вовсе не любили и в конкуренты нам явно не годились. На трибуне было немного бригадного начальства и два генерала из штаба корпуса – основное начальство было с парадным дивизионом во Владивостоке. С моря дул легкий бриз, развевая бригадное знамя с военно-морским флагом на полотнище и надписью «1-й Тихоокеанский полк ПВО». Вышло яркое солнце, играя веселыми зайчиками на амуниции и начищенных трубах небольшого оркестра. После обычных речей, которые мы традиционно прослушали вполуха, наконец-то затрещали барабаны, выстроились линейные с флажками на шты-ках, зазвучали громкие команды офицеров, и начался парад. Первыми нестройно двинулись связисты из батареи управления, очкастые «ботаники» на ходу умудрились с грохотом уронить два карабина и устроить кучу-малу, с приглушенными матюгами перед трибуной. Дальше пошла авторота, всего-то их «наскреблось» человек шестьдесят. «Заваливая» карабины и бестолково тыча штыками, шофера добросовестно громыхали сапогами по плитам плаца. Впереди роты впечатляюще печатал шаг пухлый замполит – младший лейтенант Пустовойтенко, недавно призванный из запаса «двухгодичник», в прошлом инструктор райкома комсомола где-то «пид Полтавой». Когда-то на срочной службе он был старшиной, и строевик из него, ви-дать, тогда был добрый. Вот и сейчас любо-дорого было смотреть, как «летают» его надраенные офицерские хромачи. Но не в ногу, младшой, не в ногу! Начальник штаба корчил ему страшные рожи, показывая на ноги, но бравый лейтенант, встопорщив густые усы и выкатив глаза, самозабвенно и гулко топал толстыми ножищами, не замечая ничего вокруг. В завершение прохода у одного из солдат роты свалился ремень с подсумками. На стремительно пустевшем плацу с гремящей музыкой и трибуной, за-полненной начальством в парадной форме, остался только наш взвод и морячки. Мурашки пошли по коже – сейчас или никогда! Веселая злость охватила всех. Карабины, блеснув начищенными плоскими штыками, лихо взлетели «на плечо», лязгая подковами и высекая искры, взвод, разогнавшись, «дал ножку», да так, что при проходе трибуны растроганный генерал зычным голосом произнес «Молодцы, разведчики!» (ибо такие орлы кроме как разведчиками и быть никем не могут), на что взвод слаженно и облегченно рявкнул «Ура!». Мы видели перед собой только прямую спину Вальтера в отлично подогнанной курсантской шинели и руку, красиво отдающую честь, ощущали только локоть товарища и ритм упругого строевого шага. В одном строю четко отмахивали руками невозмутимые прибалты Скаудис и Классен, украинец Глагола, уйгур Абдурахманов и узбек Махкамов, немец Гафнер, сахалинский кореец Кадзира, – кого только у нас не было! Это был настоящий интернационал, объединенный только одной мыслью – победить! Однако прошли нормально, придраться было некому и не к чему. Покрасневшего от радости майора Вокса начальство хлопало по плечу, очкастый и пухлый начмед, никак не ожидавший такой прыти от своих подчиненных, смущенно улыбался. Взвод, в едином порыве не меняя темпа, с лязгом подков, пронесся до казармы и четким серым квадратом по команде встал у входа. Вальтер радостно рявкнул: – К но-оге! – И старенькие СКСы послушно замерли у ног. – Шты-ы-к! Откинуть! – И штыки с дружным металлическим щелчком вошли в ложа. – Справа по одному бегом марш! – И загромыхали сапоги у «оружейки», карабины послушно встали в свои ячейки. Взвод сдал оружие и в темпе рассосался по рабочим местам. Праздничный обед и ужин должны быть в срок, в казармах должно быть тепло, уколы и перевязки сделаны вовремя! На следующий день сияющий, как новый гривенник, майор Вокс начал щедрую раздачу поощрений. Трое поехали в отпуск, пятерых повысили в звании, остальным объявили благодарности, а старшине Циркулю – выговор, на что «дед» отреагировал весьма индифферентно. – Главное – чтоб вам, сынки, хорошо было! И хрен с ним, с энтим выговором, – сказал старый воин, пряча заслуженные бутылки в противогазную сумку. – Зато мы им всем дали п..! Свинарь Вася Двориков, по его настоятельной просьбе, был переведен в стартовую батарею седьмого дивизиона, откуда через год уволился в запас сержантом – командиром расчета. Вальтера повысили до старшины, у нас тоже добавилось «лычек». Но главной наградой было то, что нам все-таки разрешили провести долгожданные стрельбы. Патронов и гранат выдали не жалея, так что все настрелялись вдоволь. Когда пропахший порохом взвод строем возвращался в гарнизон, каждый сделал для себя очень важный для молодого мужчины вывод – только собственная воля и труд могут помочь в этой жизни. А коллектив, объединенный одной идеей, – великая сила! Однако наш триумф кончился вполне прозаично. Начальство, проанализировав ситуацию, дабы не портить общей картины, хозвзвод больше никогда в парадный расчет включать не стало. Так что первый парад оказался для нас и последним. А через полгода Вальтер и половина взвода ушли в запас, оставив после себя только воспоминания о былой славе. В конце восьмидесятых мы с Вальтером случайно встретились в аэропорту Домодедово. Подполковник внутренних войск Грапп направлялся в одну из очередных « горячих точек», куда-то на Кавказ. Мы недолго посидели в кафе, вспомнили молодость и, разумеется, наш последний, тот самый осенний парад. – А знаешь, такого чувства я больше никогда в жизни не испытывал, – сказал Вальтер, – я как бы летел. И страшно и весело было одновременно! А сейчас уже, брат, не то… Я был с ним полностью согласен, больше мне так топать, слава богу, в жизни не пришлось – палуба бы не выдержала. Настало время расставаться, и мы, пожав руки друг другу, разошлись. Я не выдержал и обернулся. Слегка поседевший, но со спины все еще по-юношески стройный офицер в идеально пригнанной шинели и аккуратной шапке чуть набекрень четким шагом уходил в воинский зал. Совсем как тогда, пятнадцать лет назад, на том параде… |
|
Шли большие учения Тихоокеанского флота. На позиции одиннадцатого зенитно-ракетного дивизиона надрывно выла сирена, бегали солдаты в касках с автоматами и противогазами, звучали команды офицеров, суетились стартовые расчеты, загоняя серебристые тела ракет с транспортно-заряжающих машин на направляющие пусковых установок, бешено вращались антенны локаторов над кабинами наведения.
На первый взгляд бестолковая суета имела под собой четкую направленность и железную командирскую волю. Ровно через пять нормативных минут дивизион был готов к бою, все скрылись под землей, и только устремленные в зенит острые боеголовки ракет с пугающей скоростью крутились на пусковых, следуя движениям цели, находящейся за десятки километров от позиции. Я, к тому времени отслуживший целых два месяца, сидел с санитарной сумкой в окопе зачехленной зенитно-пулеметной установки и чувствовал себя совершенно чужим на этом празднике жизни. Меня прикомандировали в этот дивизион на период учений, и все вокруг было пугающим и незнакомым. В окоп меня посадил командир взвода управления лейтенант Батюня (очень вежливый двухгодичник из потомственных питерских интеллигентов) с расплывчатой задачей «вести визуальное наблюдение за воздушной обстановкой», дав артиллерийский дальномер на треноге и попросив никуда не соваться, а главное – не играть с пулеметом. Но поскольку враг с воздуха не появлялся, пулемета я откровенно побаивался, а разглядывать инверсионные следы в небе мне быстро наскучило, я, недолго думая, развернул дальномер в сторону моря и замер... Открывшаяся глазам картина была несравненно интереснее нашей невидимой и неслышимой воздушной войны с призраками. На свинцово-серой глади бухты Перевозной, сливаясь шаровой окра-ской с легкой дымкой, стояли на якорях два боевых корабля – крейсер «Александр Суворов» и эсминец «Вразумительный». Оба корабля вид имели грозный и весьма внушительный – шевелились стволы орудий, крутились башни,мигали сигнальные прожекторы, на фалах то и дело взлетали сигнальные флаги . Неожиданно из стволов орудий первой башни главного калибра крейсера метнулись длинные языки пламени, затем облачка серого дыма и лишь потом по ушам ударил запоздавший гром залпа морских шестидюймовок. В перекрестье делений дальномера было хорошо видно, как шевелятся орудийные стволы, нащупывая в дымке далекую цель. Возле еле видневшегося на горизонте крошечного островка Ослиные Уши встали всплески первых пристрелочных снарядов. Перелет! Второй залп лег с недолетом. Классическая артиллерийская «вилка»! Сотрясая воздух, громыхнули обе носовые башни, островок закрылся стеной воды от прямого попадания учебных болванок. Потом крейсер дал малый ход и, красиво развернувшись, мигнул залпом кормовых башен. Тут же в дело включились «стотридцатки» с эсминца. Орудийный гром, облачка порохового дыма и вспышки залпов, висевшая над Русским островом серебристая «колбаса» корректировочного аэростата, плавное маневрирование кораблей – это было неописуемо красивое зрелище! Завороженный картиной морского боя, я, естественно, прозевал окончание тревоги в дивизионе. В чувство меня привел старшина, постучавший по моей каске прутиком и с приторно-ласковой улыбкой спросивший: – Что, боец, небось на флот хочется? После моего по-детски доверчивого утвердительного ответа старшина сказал, что все это дело он мигом устроит, и, дав мне пару ведер воды, приказал «отдраить палубу» в каптерке. Так бесславно закончилось мое первое знакомство с «Александром Суворовым». Но я чувствовал, что мы еще не раз встретимся Поближе мы познакомились через три года, когда я уже был студентом Владивостокского мединститута. На День Военно-морского флота был открыт доступ на боевые корабли, пришвартованные на 36-м причале. Стерильно-чистая деревянная палуба крейсера, надраенные до нестерпимого блеска латунные поручни трапов и «барашки» иллюминаторов, строгая мужская чистота матросских кубриков в сочетании с могучими, величественными орудийными башнями с длинными хоботами морских 152-мм орудий, торпедными аппаратами, башнями универсального калибра, бесчисленными 37-мм зенитными автоматами, обилием антенн – все это просто поражало воображение. Экскурсии по кораблю водили бравые, подтянутые матросы и офицеры в безукоризненно пригнанной парадной форме. У кормового флага стоял здоровенный матрос-комендор в белых перчатках, с карабином у ноги. Во всем чувствовались образцовый флотский порядок и спокойная, хладнокровная уверенность в своей мощи. Хотя корабль отслужил уже четверть века и изрядно морально устарел по сравнению с ракетными крейсерами, все же он представлял грозную силу. – «Привет, «Суворов»! – шепнул я украдкой в трубу торпедного аппарата. – Вот и свиделись! Третья и последняя наша встреча с крейсером состоялась в начале восьмидесятых, когда средний морской танкер «Илим», на которым я тогда служил, стоял на внешнем рейде бухты Бинь Ба – советской военно-морской базы Камрань во Вьетнаме. Серая громада крейсера появилась на горизонте поздно вечером. Корабль шел в Бомбей (по слухам, – для передачи индийскому флоту), и остановился ненадолго для дозаправки. Однако все догадывались, что скорее всего он «пойдет на гвозди». Танкер пришвартовался к правому борту крейсера и через проброшенные шланги стал заправлять корабль флотским мазутом и пресной водой. Крейсер выглядел уже не так молодецки, как раньше, – сквозь обшивку уныло проступали ребра шпангоутов и стрингеров, ржавчина на борту была наспех замазана суриком. Орудийные установки аккуратно зачехлены по-походному, а кое-где и демонтированы, торпедных аппаратов уже не было. И хотя палуба была такой же чистейшей и медяшки сияли как всегда, и стволы орудий главного калибра по-прежнему грозно смотрели вдаль, упадок чувствовался во всем: и в выражении лиц немногочисленных матросов и мичманов, и в тихих командах офицеров, и в чистых, грустных звуках корабельного горна, играющего «захождение». Корабль напоминал заслуженного ветерана в старой форме, пришедшего на военный парад и изо всех сил старающегося выглядеть молодцевато. Утром крейсер снялся с якоря и начал, прощаясь, обходить строй кораблей и судов оперативной эскадры. Экипажи были выстроены на палубах в шеренги, на фалах подняты флажные сигналы «счастливого плавания». Оркестр флагманского авианосца «Новороссийск» играл «Прощание славянки», адмирал и офицеры держали руки у козырьков. Даже на вьетнамском сторожевике экипаж выстроился на палубе. Мы тоже, надев парадную форму, построились на баке. На душе было грустно, будто провожали навсегда близкого человека. Я даже заметил подозрительно блестевшие глаза у второго механика (он когда-то служил мотористом на «Суворове») и почувствовал, что и у меня в горле стоит комок. Крейсер, уходя вдаль, медленно уменьшался в размере, постепенно сливаясь шаровой окраской с редевшими клочьями утреннего тумана. Печально взвыла сиреной подводная лодка, медленно входившая в бухту. Я поймал себя на мысли, что за туманным горизонтом исчезали навсегда не просто мачты старого, заслуженного боевого корабля и уходила в небытие славная эпоха паровых турбин, артиллерийских дуэлей и лихих торпедных атак «на пистолетный выстрел». Под грустно-торжественные звуки старого марша безвозвратно растворялась в морской дымке и наша молодость. Почти все корабли той оперативной эскадры через пять лет бесславно ушли на слом за ненадобностью новой России, авианосец «Новороссийск», не прослужив и десяти лет, нынче в качестве плавучего отеля развлекает китайских туристов. Но славные имена последних тихоокеанских крейсеров – «Александр Суворов», «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Лазарев», – достойно отслуживших Отечеству, старые моряки помнят до сих пор. |
